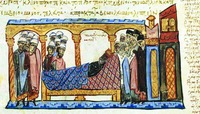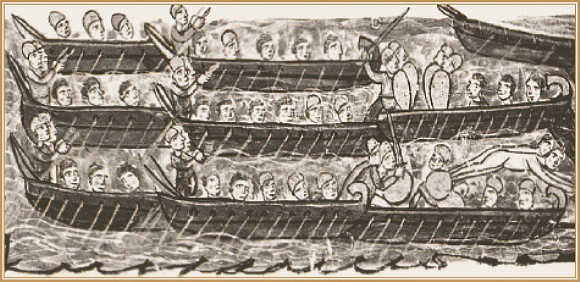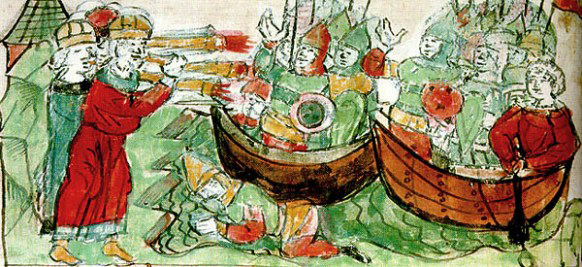Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
37, С. 47-56
опубликовано: 9 июня 2019г.
- Биография
- Сочинения
- «Об управлении империей»
- «О фемах»
- Жизнеописание имп. Василия I Македонянина
- Эксцерпты
- «Геопоники»
- «О военных походах»
- Малые сочинения
- «О церемониях византийского двора»
- Структура и содержание
(Порфирородный) [Порфирогеннет; греч. Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος] (905, май или сент., К-поль — 9.11.959, там же), визант. император (в 913-919 под опекой регентов, в 919-944 совместно с Романом I Лакапином, самостоятельно с 27 янв. 945), писатель.
Биография
Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 г. (ГМИИ)
Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 г. (ГМИИ)
К. род. в 905 г., предположительно 17/18 мая (Grumel. 1937. P. 63; Kazhdan, Cutler. 1991. P. 502) или 2/3 сент. (Jenkins. 1965. P. 109; см. предполагаемые гороскопы К.: Pingree. 1973), и был первенцем имп. Льва VI Мудрого и его 4-й жены, Зои Карвонопсиды (Карвонопсины, букв. «Черноокой»). В предыдущих 3 браках у императора не было сыновей, что ставило под угрозу продолжение Македонской династии. Рождение К. омрачалось тем, что его мать, хотя и проживала во дворце, с церковно-канонической т. зр. не считалась законной супругой императора. Тем самым К., хотя и родился в Багряной палате Большого дворца (в Порфире), формально оказывался незаконнорожденным. По-видимому, именно для того, чтобы подчеркнуть его права на престол, за К. закрепилось прозвание «Багрянородный»: так называли только тех детей, которые рождались уже у царствующих императоров. Неопределенность статуса К. грозила резко осложнить политическое будущее не только его самого, но и всей империи. Ввиду исключительности ситуации патриарх Николай I Мистик согласился признать К. законным сыном Льва VI и полноправным наследником, но категорически потребовал от императора расстаться с Зоей. Это условие было выполнено, и 6 января 906 г. младенец был торжественно крещен патриархом в соборе Св. Софии. Восприемниками выступали брат и соправитель Льва Александр и высшие сановники. Вскоре, однако, Лев не только вернул Зою во дворец, но и сочетался с ней церковным браком (церемонию без разрешения патриарха совершил придворный пресв. Фома). Патриарх Николай Мистик немедленно наказал клирика, а императора отлучил от Церкви. Лев VI предложил рассмотреть сложившуюся ситуацию на Соборе с участием представителей всех патриархатов. Ни на Рождество, ни на Богоявление 907 г. император не был допущен патриархом в Св. Софию. Отношения между ними накалились. После того как очередная попытка убедить Николая Мистика пойти на уступки потерпела неудачу, Лев VI обвинил его в связях с полководцем Андроником Дукой, поднявшим в это время мятеж на Востоке, и добился отречения патриарха от сана (февр. 907). Новым патриархом стал духовный наставник императора синкелл Евфимий II (I). Собор с участием представителей папы Сергия III принял императора в церковное общение после его покаяния (в память об этом событии была создана мозаика в нартексе Св. Софии). Тем не менее конфликт вокруг 4-го брака Льва VI вызвал затяжной внутрицерковный раскол, продолжавшийся до «Объединительного Собора» 920 г.
15 мая 908 г. (Grierson, Jenkins. 1962) К. был коронован как соправитель Льва VI и его брата Александра. Через 4 года Лев умер, и дядя К. стал автократором. Имп. Александр не имел детей, но надеялся обзавестись ими, вступив в новый брак. Племянника он не любил, открыто выражая намерение отстранить его от престола и сделать евнухом, но за ребенка всякий раз вступались сановники (Sym. Log. Chron. 134, 4. P. 295-296). Правление Александра оказалось недолгим: 6 июня 913 г. император скоропостижно скончался (ходили слухи, что он переусердствовал со снадобьями). Перед смертью он передал власть малолетнему К., назначив его опекунами патриарха Николая Мистика (вновь стал патриархом в мае 912), магистров Стефана и Иоанна Эладу, ректора Иоанна, мон. Евфимия и своих фаворитов, Василицу и Гаврилопула. К ним вскоре присоединилась и имп. Зоя.
Христос на престоле. Константин VII Багрянородный и Роман I. Монета. Аверс, реверс. Х в.
Христос на престоле. Константин VII Багрянородный и Роман I. Монета. Аверс, реверс. Х в.
Смена правления произошла в момент резкого обострения внешнеполитической ситуации. Покойный император успел рассориться с опасным соседом, Симеоном Болгарским, и в К-поле со дня на день ждали вторжения болгар. Еще во время предсмертной болезни Александра патриарх Николай тайно пригласил в столицу популярного в армии и народе полководца, доместика схол Константина Дуку. Но когда тот 9 июня спешно явился в К-поль с небольшим отрядом, выяснилось, что регентский совет (куда вошел и Николай) не намерен уступать ему власть. Попытка Дуки захватить дворец силой не увенчалась успехом: он был оттеснен стражей и погиб. Его многочисленные сторонники подверглись жестоким казням и др. репрессиям.
После подавления мятежа Дуки во главе правительства встали патриарх Николай и магистры Стефан и Иоанн Элада. В авг. к К-полю, не встречая серьезного сопротивления, подошли войска Симеона. Но взять город болгары не смогли, и они начали переговоры. Патриарх устроил встречу юного императора с сыновьями болг. правителя (обговаривались планы обручения К. с их сестрой) и символически венчал на трон Симеона во время личной встречи (913). Византийцы пытались иронизировать над деталями коронации болг. правителя (см., напр.: Theoph. Cont. P. 385). Однако для болгар это событие было важнейшей политической победой. Отныне Симеон считал себя равным по статусу «василевсу ромеев» и принял титул «цесарь и самодержец всех болгар и греков».
Уступки регентов вызвали недовольство. Властолюбивая Зоя отстранила от правления патриарха Николая и разорвала соглашение с болгарами о династическом союзе. Готовя контрнаступление в Болгарии, правительство заключило мир с арабами. Но объединенная имперская армия во главе с Львом Фокой была разгромлена Симеоном сначала при Анхиале (20 авг. 917), а затем во Фракии (917/8).
В ситуации, когда положение империи ухудшилось, в окружении юного К. созрел заговор в пользу одного из военачальников, друнгария флота (адмирала) Романа Лакапина. Заручившись формальной поддержкой императора, он помог К. отстранить от власти Зою, а затем, под предлогом защиты императора от поднявшего мятеж Льва Фоки, захватил Большой дворец. 4 мая 919 г. Роман породнился с правящей династией, выдав замуж за 14-летнего К. свою дочь Елену, и получил сан василеопатора. Одним из первых его деяний стало примирение церковного раскола между сторонниками патриархов Николая и Евфимия (июль 920).
Осенью 920 г. Роман Лакапин получил сан кесаря, а в дек. был коронован зятем в качестве императора-соправителя. Возвышение выскочки вызвало целую серию заговоров и мятежей, но Роман не только сумел удержаться у власти, но и приобщил к ней 3 своих сыновей — Христофора (921), Стефана и Константина (924); его 4-й сын, болезненный Феофилакт, в 933 г. был, несмотря на неполные 20 лет, поставлен патриархом К-польским (разрешение на поставление доставили посланцы папы Римского Иоанна XI, к-рому самому было всего 23 года). В 922 г. Роман I был объявлен автократором, оттеснив К. на 2-е место.
Так в Византии на полвека утвердилась новая форма правления, когда юных отпрысков Македонской династии опекали прорывавшиеся к власти опытные военачальники, к-рые не довольствовались положением регентов, но получали полноценный имп. сан. Это позволяло, с одной стороны, сохранять преемство легитимности, а с другой — обеспечивать высокий уровень компетентности военного и гос. управления. Однако «природные» наследники оказывались в этой ситуации под постоянной угрозой устранения.
Имп. Константин VII Багрянородный и Симеон I Великий Болгарский. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 120)
Имп. Константин VII Багрянородный и Симеон I Великий Болгарский. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 120)
Война с Болгарией продолжалась вплоть до 924 г. Основным поводом для враждебных действий «царь болгар и греков» Симеон объявил защиту законного имп. К. от «узурпатора» Романа Лакапина (см. письма Романа к Симеону: ΔΙΕΕΕ. 1883. Τ. 1. Σ. 657-666). После личной встречи с Романом Симеон согласился на перемирие, хотя и не отказался от своих притязаний на империю. В 927 г. юный сын и наследник Симеона Петр добился от визант. правительства не только признания своего царского титула, но и согласия на династический союз: женой Петра стала внучка Романа I Мария. Во время свадебных торжеств по требованию болгар отец Марии, имп. Христофор, был поставлен на 2-е место в иерархии императоров, оттеснив К. на 3-е (Sym. Log. Chron. 136, 49-50. P. 328; Theoph. Cont. VI 23. P. 414).
Долгое время К. находился в тени своего деятельного тестя. Отстраненный от реальной власти он предавался историческим изысканиям и лит. трудам. Бразды правления К. взял в свои руки лишь на 40-м году жизни. Незадолго до этого, 16 дек. 944 г., Роман I Лакапин был смещен с престола своими сыновьями Стефаном и Константином (их старший брат, Христофор, к тому времени уже умер) и отправлен в монастырь. Однако «триумвират» Стефана и 2 Константинов продержался недолго. Багрянородный сын Льва VI пользовался гораздо большей популярностью, чем сыновья безродного выскочки. Уже 20 дек. 944 г. К. был провозглашен автократором, а еще спустя месяц, 27 янв. 945 г., в ходе очередного дворцового переворота сыновья Лакапина были арестованы по обвинению в покушении на К. и отправлены в ссылку.
Уже через месяц после начала самостоятельного правления К. короновал в качестве соправителя своего юного сына Романа II, закрепив тем самым династическое преемство. Полномочия парадинастевона (неофиц. главы правительства) при этом получил молодой евнух Василий, незаконнорожденный сын (νόθος) Романа Лакапина от наложницы-«скифянки». Он оставался самым влиятельным лицом в гос-ве до кончины К., а впосл.- и при его внуках (до 985).
Достигнув высшей власти, К. получил возможность на практике воплотить политические идеи, выработанные им за время продолжительных ученых занятий. Он объявил курс на коренной пересмотр политической линии своего тестя, к-рого называл человеком «простоватым» и обвинял в недопустимых идеологических уступках.
В попытках восстановить авторитет империи военным путем К. не достиг крупных успехов, хотя и не знал таких катастрофических поражений, как его предшественники. Самой крупной неудачей его самостоятельного правления был провал экспедиции Константина Гонгилы, пытавшейся в очередной раз освободить о-в Крит от захвативших его араб. пиратов (949). На основных фронтах сражений с мусульманами — в Юж. Италии и Сирии — продолжалась позиционная война. Успехи талантливых имперских полководцев Варды Фоки и его сына Никифора (впосл. императора) были нивелированы активностью амбициозного халебского правителя, хамданида Сайфа ад-Даулы, к-рый с 943 г. был главным противником Византии на востоке.
Более удачно К. действовал в дипломатической сфере. Приоритетным направлением его политики стали отношения с мусульм. Востоком. Пользуясь углублявшимся кризисом Аббасидского халифата, К. установил стратегический союз с полуавтономным егип. правителем из династии Ихшидидов Мухаммадом ибн Тугджем (946, о хронологии см.: RegImp, N 653), а также поддерживал оживленные контакты с соперниками Аббасидов — омейядским халифом Кордовы Абдаррахманом III, африкан. Фатимидами и даже Зайдитскими имаматами в Йемене и Табаристане. Об амбициозных планах расширения влияния империи в распадавшемся Багдадском халифате свидетельствует упоминание в «Книге церемоний» К. послов из Египта, Персии или Хорасана, «подчиняющихся царству ромеев и присылающих пакт» (De cerem. 1829. Vol. 1. P. 686).
На Кавказе, в Юж. Италии и на западе Балканского п-ова К. продолжал традиц. политику, опиравшуюся на исторические связи этих регионов с империей. Многочисленные местные династы рассматривались, как правило, в качестве «подчиненных» императора, хотя возможности К-поля для реальной военной и политической активности в этих регионах были весьма скромными.
Отношения с Болгарией, в первой половине правления К. бывшей опаснейшим соперником Византии, после кончины Симеона вошли в мирное русло. Стабильному миру способствовали уступки, сделанные Романом I Петру Болгарскому,- признание его «василевсом болгар» и женитьба на внучке императора. К. неодобрительно относился к этому династическому браку (с к-рым, помимо всего прочего, было связано и его личное унижение), считая его совершенно недопустимым и ничем не оправдываемым нарушением имперского статуса (Const. Porphyr. De adm. imp. XIII 147-194). Из дипломатических формуляров известно, что К. поначалу не признавал за Петром царского титула, продолжая титуловать его «архонтом» и называя «духовным сыном». Но позднее он все же использовал в переписке с Петром титул «василевс болгар» (De cerem. 1829. Vol. 1. P. 682, 690). Была признана и автономия Болгарской Церкви: в составленной при К. церемониальной табели о рангах (т. н. Клиторологий Филофея) архиепископ Болгарский следует сразу за синкеллами патриархов (De cerem. 1830. Vol. 2. P. 727).
Имп. Константин VII Багрянородный на смертном одре. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 139)
Имп. Константин VII Багрянородный на смертном одре. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 139)
Особое место в политике К. занимала Русь. Незадолго до свержения, в 944 г., Роман I заключил мирный договор с вел. кн. Игорем (RegImp, N 647; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 46-53; заключен от имени Романа, К. и Стефана). Вскоре Игорь был убит, и у власти на Руси оказалась его вдова Ольга, регентша при малолетнем сыне Святославе. К., на собственном опыте знавший о специфике жен. правления, по всей вероятности рассчитывал воспользоваться ослаблением Русского гос-ва. Возможно, именно поэтому кнг. Ольга решилась на редкий в средневековой политической практике и весьма рискованный шаг: лично отправилась за границу для переговоров. Офиц. визит женщины, стоявшей во главе гос-ва, был экстраординарным явлением с т. зр. придворного этикета, и благодаря этому в составленной под редакцией К. кн. «О церемониях…» сохранилось подробнейшее описание 2 приемов, оказанных кнг. Ольге в К-поле — в среду 9 сент. и в воскресенье 18 окт. (Δοχὴ τῆς ῎Ελγας τῆς ῾Ρωσένας — De cerem. II 15. 1829. P. 594-598; рус. пер.: Новиков. 2006. С. 343-346). Сочетание числа месяца и дня недели теоретически допускает 2 даты — 946 и 957 г.; позиции исследователей по этому вопросу разделились (за раннюю дату: Gesner. 1756; Thunmann. 1774; Литаврин. 1981а, 1981б, 1983, 1986, 2000; Kresten. 2000; за позднюю: Muralt. 1855; Макарий (Булгаков). 1994; Назаренко. 2001; Featherstone. 2003). Судя по тональности упоминаний о «росах» вообще и их правительнице в частности в сочинениях К., Ольге удалось отстоять интересы Руси и сохранить ее международный авторитет. Помимо этого рус. княгиня приняла в К-поле крещение по греч. обряду, получив имя Елена. Согласно традиции, ее восприемником должен был выступать сам император, что нашло специфическое отражение в летописной легенде о «хитрости» рус. княгини: император якобы соблазнился ее красотой и собирался на ней жениться, но Ольга, крестившись, оказалась его крестной дочерью, что сделало брак невозможным (ПСРЛ. Т. 1. 2001. Стб. 60-62; Т. 2. 2001. Стб. 49; Т. 3. М., 2000. С. 113 и т. д.). К. не счел нужным упоминать о крещении рус. правительницы, хотя о событии известно из хроники Иоанна Скилицы (Scyl. Hist. P. 240). Слав. и лат. источники дополняют сведения о посольстве Ольги: согласно Повести временных лет, она не была удовлетворена результатами визита в К-поль и высокомерно отказалась предоставить К. военную помощь, а согласно Продолжателю хроники Регинона Прюмского, в 959 г. обратилась к герм. имп. Оттону I с просьбой прислать на Русь епископов и священников (Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. // ДГВЕ, 1991. М, 1994. С. 61-80).
Скилица упоминает о венг. векторе «государственного миссионерства» при К. Кочевники-протовенгры, в племенном союзе к-рых существенную роль играли тюркские элементы (откуда и греч. название венгров X в.- Τοῦρκοι), после проникновения в Придунавье более полувека совершали регулярные грабительские рейды по всем европ. странам, не исключая и зап. провинций Византии. Но к сер. X в. венг. вожди все чаще стали искать возможности для политической институализации среди соседних гос-в. Ок. 952 г. венг. князья Булчу и Дьюла приняли крещение в К-поле, получив от императора не только богатые дары, но и титулы. Дьюла привез с собой и мон. Иерофея, которого рукоположили во епископа венгров. Это определило первоначальную греко-визант. ориентацию венг. христианства, лишь позднее переориентировавшегося на лат. Рим (см.: Moravcsik. 1970; Ripoche. 1977).
Во внутренней политике К. также провозглашал определенный разрыв с политикой своего предшественника: в частности, намеревался облегчить налоги. Однако на практике законодательные меры К. являлись продолжением политики Романа I. Так, новелла 947 г. по сути повторяла знаменитые новеллы Романа Лакапина о защите мелких землевладельцев (Svoronos. 1994. P. 93-103; ср. 47-92). В социальной политике К. пытался совмещать «демократическую» линию Романа, ориентированную на поддержку бедных слоев населения и сдерживание растущих аппетитов т. н. динатов (богатых и влиятельных землевладельцев), с ориентацией его отца на аристократизацию государственной, прежде всего армейской, элиты. Именно в правление К. в Византии быстрыми темпами зарождается родовая аристократия, о чем свидетельствует появление отсутствовавших ранее устойчивых фамильных прозвищ.
Сочинения
К.- центральная фигура визант. энциклопедизма X в., под его именем издано множество произведений, однако их атрибуция остается предметом научной полемики. Уже в визант. историографической традиции К. было ошибочно приписано авторство неск. трудов, к-рые не могли ему принадлежать. Так, Иоанн Зонара (XII в.), восхваляя риторическое искусство и стилистическое мастерство К., в т. ч. упоминал и о его умении работать с разными стихотворными метрами и о том, что К. составил поэтическую эпитафию своей супруге Елене (Zonara. Epit. hist. XVI 21), однако это невозможно, поскольку она пережила его (Шевченко. 1993. С. 10). Основная сложность связана с тем, что большая часть сочинений спорного авторства создавалась по инициативе К. и в его окружении, однако мера личного участия К. не может быть установлена с к.-л. точностью. Согласно наиболее радикальной гипотезе, высказанной И. И. Шевченко, уровень владения К. лит. греч. языком высокого стиля был не очень высок (Там же. С. 19), о чем можно судить по немногим произведениям, к-рые атрибутируют ему с абсолютной точностью; к ним относятся 8 посланий к Феодору, митр. Кизическому (Darrouzès. 1960). В посланиях К. неоднократно сетовал на свою малограмотность (Ibid. P. 317-324), однако в какой мере эти утверждения отражают действительное положение дел, а в какой — являются типичным для византийского эпистолярного этикета топосом самоуничижения, судить сложно (Lemerle. 1971. P. 269). В ряде случаев, прежде всего когда речь идет о масштабных энциклопедических проектах, К. принадлежит вступление к сочинению, а основная часть создана анонимным автором или коллективом авторов под его руководством. Ценным свидетельством о методе работы К. является его ремарка в одном из посланий к Феодору о том, что император «выбрал его, чтобы тот составил для него некую речь» (Darrouzès. 1960. P. 318). Шевченко считает, что все сочинения, приписываемые К., кроме посланий, в той или иной мере подвергались профессиональной редактуре (Шевченко. 1993).
«Об управлении империей»
(лат. De administrando imperio). Центральное сочинение, связанное с именем К., в рукописях не имеет заглавия, название «Об управлении империей» является условным и предложено первым издателем текста И. Меурсием в 1611 г. Критическое издание сочинения было осуществлено Д. Моравчиком в 1949 г. (2-е изд.- 1967). Совр. научный консенсус относительно структуры и замысла труда основан на 2 фундаментальных комментариях: 1-й был подготовлен в 1962 г. группой англоязычных ученых под рук. Р. Дженкинза (Ф. Дворник, Моравчик, Б. Льюис, Д. Оболенский, С. Рансиман), 2-й — в 1989 г. (2-е изд. 1991, 3-е дополненное и расширенное издание планируется в 2015 г.) группой российских ученых под рук. акад. Г. Г. Литаврина (А. П. Новосельцев, М. В. Бибиков, Б. Н. Флоря, С. А. Иванов, Е. А. Мельникова, О. А. Акимова и др.). Рукописная традиция сочинения крайне бедна: оно дошло в 4 рукописях, однако только одна из них (Paris. gr. 2009. Fol. 3-211) относится к визант. эпохе (кон. XI в.). Возможно, это связано с тем, что текст изначально задумывался как личное доверительное наставление для наследника (буд. императора Романа II), содержал конфиденциальные сведения о визант. дипломатии и не предназначался для хождения в широких кругах к-польской элиты. Лемма сочинения: «Константина, во Христе, Царе вечном, василевса ромеев к сыну своему Роману, боговенчанному и багрянородному василевсу» (перевод Литаврина).
В предисловии, написанном самим К. («все это я продумал наедине с собой») уже после завершения основной части труда, автор излагает план сочинения: в 1-й (внешнеполитической) части произведения он расскажет о стратегии и истории взаимоотношений империи с иноплеменными народами, к-рые рассматриваются исключительно с т. зр. «пользы» и «вреда» для державы ромеев; во 2-й (внутриполитической) — о том, какие в империи «в разные времена появлялись новшества». Однако в действительности текст не соответствует намеченному плану: 2-я часть (главы 49-53) разработана хуже 1-й и посвящена разрозненным сюжетам, не объединенным общим замыслом (вопросы налогообложения новых провинций, история восстаний славян на Пелопоннесе, организация службы на флоте, история пров. Херсон). Вероятно, в процессе работы над текстом (948-952) первоначальный план претерпел изменения, поскольку справочная функция (описание народов) оказалась вытеснена дидактической (наставление сыну о внешней и внутренней политике) (критику этой гипотезы см. в: Lemerle. 1971. P. 277-278). Согласно выводам Дженкинза, наиболее ранний слой сочинения представляют главы 14-42, они восходят к материалам, собранным в 40-х гг. X в. по распоряжению К. в ходе подготовки энциклопедии о народах (арабах, мадьярах, хазарах, аланах, зихах) и землях (территории Испании, Италии, Венеции, Далмации, Хорватии, Сербии). Остальные главы большей частью представляют собой разрозненные и малоупорядоченные материалы, не всегда изначально предназначавшиеся для публикации, и перемежающиеся практическими наставлениями. Включение в текст по недосмотру необработанных материалов привело к множеству повторов (главы 23-25 и 48 представляют собой материал для гл. 47, гл. 9 — для гл. 2). Главы 1-12, несущие следы наиболее тщательной редакторской обработки, содержат советы относительно отношений с сев. соседями (печенегами, хазарами, аланами, болгарами, русскими, венграми, узами, черными булгарами), главы 43-46 — с народами Закавказья (армянами и грузинами). По предположению Литаврина, в окончательный текст сочинения не вошла глава о болгарах, хотя первоначальный план ее включал. Гл. 13, как и вводная часть, принадлежит перу самого К. и, несмотря на заглавие «О народах, соседствующих с турками», гл. обр. посвящена вопросу о том, как нужно отвечать послам иноплеменных народов, требующим от византийцев имп. регалий, или же настаивающим на династических браках с имп. фамилией, или требующим раскрыть им секрет греч. огня. Названия глав также плохо упорядочены: нек-рые из них, возможно, предшествовали самим главам, представляя собой своеобразные задания для составителей, другие, напротив, были добавлены позднее при копировании, причем не всегда в соответствующие им места.
Трактат важен как для реконструкции византийской внешнеполитической доктрины, так и для исследования русско-византийских отношений. Наиболее информативны в этом отношении гл. 2 «О пачинакитах и росах», в которой рассмотрены вопросы русско-печенежской торговли и использования византийцами печенегов для сдерживания росов, а также гл. 9 «О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь». В этой главе описан водный путь из Киева в К-поль, с подробным перечислением встречающихся на пути рус. городов (Новгород, Смоленск, Любеч, Вышгород) и рассказом о днепровских порогах и языческом жертвоприношении на о-ве Хортица (автор рассказа, несомненно, сам совершил путешествие по этому маршруту). Описание дополняется сведениями об образе жизни росов (возможно, источником сведений для этой части был человек, владевший древнерус. языком), рассказывается о взаимоотношениях княжеской дружины с подвластным ей слав. населением (полюдье).
«О фемах»
(лат. De thematibus; греч. Περ τῶν θεμάτων). Составитель географического трактата, в заглавии обозначенного как «творение императора Константина, сына Льва, о фемах, принадлежащих империи ромеев», в подзаголовке обещает рассказать, «откуда они получили свои наименования, что обозначают их названия». Трактат, близкий по принципу построения и целям к др. энциклопедическим проектам К., распадается на 2 части: 1-я посвящена вост. фемам, 2-я — западным. О каждой феме сообщается, откуда происходит ее название (нередко этимология является мифической или псевдоисторической), менялось ли оно, каковы ее границы, какие города к ней относятся, а также даются краткие сведения из ее истории. В значительной мере территориально-адм. структура империи, описанная в трактате, отражает реальность сер. VI, а не сер. X в., на это указывает множество дословных заимствований из сочинений ранневизант. географов Стефана Византийского и Иерокла. 2-я часть сохранилась лишь в одной визант. рукописи Paris. gr. 854 (XIII в.) (Const. Porphyr. De them. P. 4, 15-17). По наблюдениям А. Пертузи, версия 1-й части, представленная в этом списке, содержит следы редактуры, прежде всего заключавшейся в тенденции к деперсонализации высказываний, сделанных от имени К. («моего блаженного отца» последовательно заменялось на «славного императора Льва») (Ibid. P. 18-21). По мнению издателя, 1-я часть, лучше всего представленная в списке Vat. gr. 1065 (XII в.), является оригинальным произведением К., созданным ок. 933/934 г. После 998 г. это сочинение было переработано и дополнено 2-й частью, автором переработки и дополнения мог быть историк Иосиф Генесий (Const. Porphyr. De them. P. 43-49). Эту гипотезу не поддержали большинство исследователей: высказывались предположения, что обе части созданы при жизни Романа Лакапина в 934-944 гг., предположительно ближе к 934 г. (Ostrogorsky. 1953. P. 39-43); что трактат создан по завершении правления Романа I, в 952 г., и содержит сведения о взаимоотношениях с зап. державами более поздние, чем те, что представлены в соответствующих пассажах «Об управлении империей» (Lounghis. 1973); что трактат написан после перенесения в К-поль мощей свт. Григория Богослова, предположительно в 956-959 гг., и тем самым является наиболее поздним энциклопедическим проектом К., оставшимся незавершенным и поэтому изобилующим внутренними противоречиями (Ahrweiler. 1981).
Жизнеописание имп. Василия I Македонянина
К. приписывается сочинение, содержащее элементы историографического произведения, светской биографии и панегирика (Каждан. 2012. С. 149-157; Alexander. 1940. P. 197) и вошедшее в качестве 5-й книги в т. н. Хронику Продолжателя Феофана. Хроника сохранилась в уникальной рукописи Vat. gr. 167 (нач. XI в.) и охватывает события от царствования Льва V (813-820) до царствования Романа II (доведена до 961). Этот текст представляет собой не цельное произведение, а созданную ок. 1000 г. компиляцию неск. сочинений, гл. обр. возникших в окружении К. В Жизнеописании имп. Василия, предположительно составленном в 957-959 гг. (Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur. 2011. P. 9*), личное участие К. было более значительным, чем в др. частях хроники. Во вступлении к Жизнеописанию он говорит от 1-го лица о замысле написать историю всех визант. императоров, начиная с равноап. Константина I Великого, но, ссылаясь на нехватку времени и сил, решает ограничиться лишь самым ярким примером — биографией императора, при к-ром гос-во пережило наибольший расцвет. К. также упоминает о своем желании продолжить рассказ, описав правление императоров Льва VI, Александра и, возможно, даже свое, если ему позволит слабое здоровье (Ibid. P. 8-10). В нек-рых фрагментах К. упоминается в 3-м лице (напр., в рассказе о взятии Адаты в 947-948 гг.: Ibid. P. 172). Возможно, вступление к Жизнеописанию было действительно создано лично К., а основную часть написал анонимный автор, пользовавшийся материалами, предоставленными К. (Ibid. P. 13*). Подобное прочтение подтверждается и заголовком «Историческая повесть о жизни и деяниях славного имп. Василия, которое его внук Константин, император ромеев, в Боге трудолюбиво собрал из различных повестей и представил [настоящему] писателю (τῷ γράφοντι)» (Ibid. P. 8). В гл. 97 Жизнеописания имп. Василия содержатся сведения о крещении русов при Василии I, предположительно в 963-967 гг. (Ibid. Р. 312-316). Согласно этому источнику, визант. проповедники встретили отпор местного населения и смогли склонить его к принятию крещения только после того, как было явлено чудо: брошенное на неск. часов в горящую печь Евангелие осталось невредимым. Историчность сообщения о визант. миссии к русам при Василии I ставится исследователями под сомнение (Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003. С. 169-172; Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещении Руси в средневек. письменных источниках // ДГВЕ, 2000. М., 2003. С. 125-129).
Эксцерпты
Имп. Константин VII Багрянородный. Монета. Аверс, реверс. Х в.
Имп. Константин VII Багрянородный. Монета. Аверс, реверс. Х в.
(лат. Excerpta; греч. ᾿Εκλογαί). По инициативе К. был предпринят масштабный проект по кодификации знаний во всех областях человеческой деятельности, для этой цели придворные ученые составили антологию мнений античных и ранневизант. авторов (наиболее поздний — историк Георгий Амартол (IX в.)) по различным вопросам и разделили ее на 53 тематических блока (ὑπόθεσις). Результаты этой работы сохранились только частично: полностью дошел 27-й разд. «О посольствах» (De legationibus; Περ πρέσβεων), примерно половина 50-го разд. «О добродетелях и пороках» (De virtutibus et vitiis; Περ ἀρετῆς κα κακίας), а также значительные фрагменты разделов «О заговорах против императоров» (De insidiis; Περ ἐπιβουλῶν κατὰ βασιλέων γεγονυιῶν) и «О мнениях» (De sententiis; Περ γνωμῶν). О структуре и замысле антологии можно судить по предисловиям к разделам «О посольствах» и «О добродетелях и пороках» (Семеновкер. 1984; Lemerle. 1971. P. 281-284), предположительно одно и то же предисловие повторялось с небольшими изменениями перед каждым разделом. Каждый раздел предварялся списком источников (нек-рые из них известны только благодаря «эксцерптам» и в самостоятельном виде не сохр., это произведения таких авторов, как Приск, Менандр Протектор, Петр Патрикий, Евнапий), порядковым номером и оглавлением. Известно, что 1-й раздел был озаглавлен «О провозглашении императоров» (Περ ἀναγορεύσεως βασιλέων). Расположение остальных разделов неизвестно, однако названия нек-рых можно реконструировать благодаря отсылкам к ним в др. частях: «О народах», «О преемственности императоров», «О том, кто что изобрел», «О кесарях», «О подвигах», «О поселениях», «Об охоте», «О посланиях», «О речах», «О браках», «О победе», «О поражении», «О стратегиях», «О нравах», «О чудесах», «О сражениях», «О надписях», «О государственном управлении», «О церковных [делах]», «О выражении» (Schreiner. 1987. S. 14-21). Изучение помет в рукописях, использовавшихся при составлении антологии, позволяет предположить, что существовали и др. разделы: «О коронации императоров», «О смерти (низложении) императоров», «О штрафах», «О праздниках», «О предсказаниях», «О чинах», «О причине войн», «Об осадах», «О крепостях» (Ibid. S. 21-23). В то же время сгруппировать разделы в более крупные тематические блоки (Büttner-Wobst. 1906) не получилось (Lemerle. 1971. P. 284-285). Рукописная традиция сохранившихся разделов антологии бедна, вероятно, проект К. не пользовался популярностью (Ibid. P. 287). Тем не менее собрание «Эксцерптов» активно использовалось автором словаря «Суда» (De Boor. 1912; De Boor. 1914/1919).
«Геопоники»
(лат. Geoponica; греч. Περ γεωργίας ἐκλογαί). Сельскохозяйственная энциклопедия, близкая по целям и структуре к «Эксцерптам», была создана анонимным автором по инициативе К. и начинается с адресованного императору посвящения, которое помимо похвал и славословий содержит важные рассуждения о роли сельского хозяйства в жизни империи: по словам автора, «государство разделено на три части: войско, священство и земледелие» (Lemerle. 1971. P. 289). Энциклопедия состоит из 20 книг, охватывающих все сферы сельскохозяйственной деятельности: прогноз погоды, выбор семян, почвы для посева и удобрений, организация работы в поле, сельскохозяйственные постройки, распределение полевых работ по месяцам, выращивание винограда, насекомые-вредители, изготовление, хранение и дегустация вина, изготовление масла, выращивание цветов, овощей, птицеводство, пчеловодство, коневодство, животноводство, собаководство, охота и рыбная ловля. Точная датировка сочинения затруднительна, вероятно, оно создано в 944-959 гг. Вопрос личного участия К. в подготовке энциклопедии не может быть решен окончательно, хотя автор предисловия называет его «составителем» (συλλεξάμενος). По мнению П. Лемерля, сочинение не носит оригинальный характер и почти полностью воспроизводит несохранившийся ранний текст схоластика Кассиана Басса из Вифинии (это имя стоит в заглавии неск. рукописей, кроме того, в некоторых местах эксцерпты перемежаются личными обращениями к «дражайшему сыну Бассу»), который в свою очередь также не является самостоятельным сочинением, а восходит к источникам IV в. Следов., реконструировать сельскохозяйственную жизнь X в. на основании «Геопоник» нельзя (Ibid. P. 289-291). По мнению Е. Э. Липшиц, напротив, составителя «Геопоник» отличало стремление творчески переработать и актуализировать имевшийся в его распоряжении материал, а значит, источниковедческая ценность памятника для изучения реалий X в. весьма велика (Геопоники. 1960. С. 13). О популярности «Геопоник» говорит то, что они известны более чем в 50 ранних списках, переведены на сир., араб., арм. и частично лат. языки.
«О военных походах»
В рукописи Lips. Rep. I 17. Fol. 1-21 (963-969) трактат «О церемониях…» предваряется 3 трактатами о военных походах. Согласно подзаголовку наиболее пространного из них, он был создан К. для своего сына Романа (Three Treatises. P. 94). Трактат посвящен вопросу о том, как должен быть организован поход, в котором принимает участие император. Сочинение открывается обращением к сыну, в к-ром К. описывает свои источники, основным из к-рых стала «Записка» Льва Катакила, чиновника при дворе Льва VI Мудрого. Эта «Записка», одну из версий к-рой представляет собой 2-й из трактатов, была слишком краткой и стилистически несовершенной и нуждалась в переработке. По словам К., он собирался передать сыну давнюю традицию, идущую от прежних императоров. Примечательно, что в числе этих древних императоров упомянуты и императоры-иконоборцы — представители Исаврийской династии (Ibid. P. 96). Трактат отличает отсутствие композиционного единства и небрежность в отборе материала (перечни чиновников, сопровождающих императора в походе, необходимой утвари и вьючных животных перемежаются рассказами о триумфальных въездах в город императоров Василия I и Феофила). Вероятно, К. приступил к работе над трактатом в сер. 50-х гг. X в., однако не успел завершить редактирование и унификацию текста. В то же время трактат является ценным свидетельством о лит. вкусах и составе личной б-ки К. (Lemerle. 1971. P. 270).
Малые сочинения
Под именем К. дошел ряд малых сочинений светской и церковной тематики. В рукописной традиции (список Paris. gr. 137; Vat. Barber. gr. V. 10) К. приписана речь на перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (BHG, N 878d; Δυοβουνιώτης. 1924/1926). Предположительно она была создана в связи с 500-летием перенесения в К-поль мощей святителя, однако нек-рые выражения заставляют видеть в авторе клирика, а не императора (Lemerle. 1971. P. 271; Шевченко. 1993. С. 29-30). Вне зависимости от решения вопроса об авторстве филологический анализ показывает, что речь опирается на сочинение той же тематики, созданное отцом К. имп. Львом VI Мудрым (BHG, N 877h), и в свою очередь была использована прп. Симеоном Метафрастом в 80-х гг. X в.Т. о., датировка речи совпадает с временем жизни К. (Flusin. 1999. P. 25-29).
Имя К. также обозначено в заглавии риторического послания в связи с перенесением в К-поль мощей свт. Григория Богослова (BHG, N 727; Σακελλίων. 1885). Однако уже сама форма и заголовок соч. «Письмо, как будто бы (ὡς) от императора Константина Багрянородного, составленное и посланное Великому Богослову Григорию, когда он был перенесен в Константинополь» указывают на то, что она принадлежит др. автору, писавшему по имп. заказу (Шевченко. 1993. С. 27). Предположительно этим автором был Феодор Дафнопат, поскольку произведение дошло в коллекции его сочинений (ркп. Patm. 706; Théodore Daphnopatès. Correspondance / Éd., trad. J. Darrouzès, L. G. Westerink. P., 1978. P. 18, 142-145). Другая речь, посвященная этому же событию (BHG, N 728; Flusin. 1999. P. 40-81), могла в действительности быть произнесена самим К. 19 янв. 946 г., в момент торжественного перенесения мощей Григория Богослова в ц. св. Апостолов в К-поле (Ibid. P. 6-12). Первоначальная редакция, дошедшая в рукописи ГИМ. Син. греч. 162. Л. 274 об.- 288 (25 февр. 1025), позже была переработана и сокращена самим автором, чтобы сделать ее более подходящей для литургических нужд (ркп. Taurin. gr. 116. Fol. 371v — 379v).
Речь о перенесении вериг ап. Петра (BHG, N 1486; Batareikh. 1908), литургическая поэзия (PG. 107. P. 300-308) и повесть об Эдесском убрусе, созданная в связи с его перенесением в К-поль в 944 г. и включенная под 16 авг. в минологическое собрание прп. Симеона Метафраста без к.-л. содержательных изменений (BHG, N 794; Dobschütz. 1899; Guscin. 2009), также не могут быть надежно атрибутированы К. (Lemerle. 1971. P. 271-272; Guscin. 2009. P. 154-155). Повесть об Эдесском убрусе имеет множество лексических пересечений с Жизнеописанием Василия I Македонянина. Согласно предположению Шевченко, оба произведения были созданы одним анонимным автором по заказу К. (Шевченко. 1993. С. 27).
Даже если К. и не был автором конкретных агиографических произведений, его участие и личная заинтересованность в обогащении и систематизации и этой сферы духовной жизни не вызывают сомнений. При его дворе работали агиографы Григорий Референдарий и Феодор Дафнопат, по его заказу была создана редакция Синаксаря К-польской церкви, дошедшая в рукописи H (Hieros. S. Crucis. 40), содержащей также пролог-обращение к К. от имени составителя — диакона Евариста (Luzzi. 1989; Flusin. 2001. P. 41-47).
Малые произведения светского характера представлены речами, обращенными к командующим вост. войсками, с целью поднять их боевой дух. Лемерль полагал, что они действительно принадлежат К. (Lemerle. 1971. P. 272-273); Шевченко, основываясь на стилистических сопоставлениях с посланиями к Феодору Кизическому, отрицал авторство К. (Шевченко. 1993. С. 29). Речи дошли в рукописи Ambros. B 119 sup. Fol. 154-161 (959-963): 1-я (Ahrweiler. 1967. P. 397-399) создана в 952-953 гг., 2-я (Vári. 1908. S. 78-84) — в 958 г.
Л. В. Луховицкий
«О церемониях византийского двора»
(лат. De cerimoniis aulae Byzantinae) — важный памятник византийской культуры, позволяющий изучать топографию К-поля, имп. придворный церемониал, историю визант. богослужения, археологию и проч. Представляет собой состоящую из 2 книг коллекцию различных текстов, в к-рых описан придворный ритуал. Автором трактата традиционно считался К., однако, как свидетельствуют исследования ученых начиная с XIX в., К. принадлежала лишь инициатива создания трактата, сбор материала и его частичная систематизация. Неизвестно, кому принадлежит окончательная редакция текста трактата. В предисловиях к каждой книге К. указывает на главную цель своей работы — «спасти от забвения увядающее знание, рискующее исчезнуть совершенно».
Трактат сохранился в нескольких рукописях. Лучшая и древнейшая из них — рукопись X в. из Лейпцигской университетской б-ки (Lips. Univ. Rep. I, 17, gr. 28). Составление кодекса было начато еще при жизни К., и первоначально в нем содержались лишь несколько небольших текстов; постепенно, вплоть до конца правления имп. Никифора II Фоки (963-969), рукопись дополняли, в т. ч. текстами, принадлежащими К. (подробнее см.: Featherstone. 2002). Лейпцигская рукопись легла в основу др. несохранившейся рукописи, созданной в посл. трети X в. (Featherstone. 2004. S. 120). В настоящее время известны также 2 плохо читаемые рукописи-палимпсесты, в которых поверх текста трактата «О церемониях…» написаны сочинения прп. Ефрема Сирина: Cod. Chalcensis S. Trinitatis (125)133 (ныне хранится в б-ке К-польского Патриархата в Стамбуле; Mango, Ševčenko. 1960. P. 249) и Vatop. 1003 (Kresten. 2005. Kresten, Featherstone, Grusková. 2005).
Работа над 1-м изданием памятника была начата еще в 1743 г. нем. ученым Й. Г. Лайхом, к-рый успел до смерти в 1750 г. подготовить к изданию 75 глав 1-й книги, снабдив текст лат. переводом. Дальнейшее продолжение проекта связано с именем Йоханна Якоба Райске: в 1751 г. он издал с собственными историко-археологическими комментариями 1-й том трактата, а в 1754 г.- 2-й. Комментарии ко 2-му тому издатель планировал опубликовать отдельной книгой, но из-за финансовых трудностей отказался от этой идеи. В 1829-1830 гг. 2-томник, включающий комментарии к обоим томам, был переиздан Б. Г. Нибуром в серии CSHB.
В нач. XX в. рус. византинисты пришли к выводу о несовершенстве издания Й. Я. Райске, к-рый часто допускал неверные прочтения тех или иных мест рукописи. Поэтому в 1918 г. по инициативе Ф. И. Успенского в Российской АН была создана комиссия «Константин Порфирородный», цель которой состояла в подготовке нового издания (Барынина О. А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох: Русско-византийская комиссия, 1918-1930 гг. СПб., 2010. С. 49). Результатом работы комиссии стал, в частности, подготовленный А. А. Васильевым рус. перевод трактата, местонахождение к-рого в наст. время неизвестно (Басаргина Е. Ю. Ф. И. Успенский: обзор личного архива // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 52).
В 1935-1940 гг. А. Фогтом была предпринята попытка улучшить издание Райске: текст был набран заново, была сохранена нумерация глав рукописи, для удобства пользования издатель пронумеровал строки и проставил пагинацию оригинального боннского издания. Кроме этого, Фогт подготовил обширный комментарий и франц. перевод текста, однако издание удалось довести лишь до 83-й [V92] главы 1-й книги. В наст. время в Париже под рук. Ж. Дагрона готовится новое издание трактата. Полный перевод на англ. язык обеих книг «О церемониях византийского двора» с комментариями осуществлен в 2012 г. Э. Моффатт и М. Толл.
Структура и содержание
Трактат «О церемониях…» состоит из 2 книг: в 1-й книге 97 глав (изначально было 106; см.: Reiske. 1829. P. 152), во 2-й — 56. Приложением к 1-й книге являются 3 военных трактата. Источниками для сборника послужили тексты различных авторов от VI до X в. Состав трактата можно разделить на 3 категории (Bury. 1907. P. 227): 1) придворный устав (De cerem. I 1-83 (92), 84-95 (93-104); II 1-25, 26-40а); 2) сочинения, составленные либо отредактированные К. (II 42); военные документы (II 44, 45, 49, 50); прием послов (II 47, 48); 3) материалы других авторов: клиторологий Филофея (II 52-53), список патриархов, митрополитов и епископов Псевдо-Епифания Кипрского (II 54).
Книга «О церемониях…» — источник для реконструкции топографии и архитектуры К-поля, имп. церемониала и истории визант. богослужения X в., поскольку содержит описание как религиозных, так и светских выходов визант. императоров. Литургико-церемониальный материал по преимуществу изложен в главах 1-37 в 1-й книге. В 1-й главе представлен обряд выхода императора на Господские праздники в храм Св. Софии и для примера — чинопоследование выхода в праздник Рождества Христова; в той же главе излагаются чины выхода в Великую субботу и Пасху, а также выход на праздник Рождества Богородицы, как типовой для всех Богородичных праздников. В главах 2-8 помещены т. н. «аккламации» димов — славословия императору в тот или иной праздник (от Рождества Христова до Пятидесятницы). В главах 9-35 описаны обряды выходов императора на богомолье начиная с праздника Пасхи и заканчивая выходом в Великую субботу. В гл. 36 — выход по поводу воссоединения Церкви, в гл. 37 представлены описания имп. облачений, используемых для праздничных служб и процессий.
Д. Ф. Беляев предложил классификацию имп. выходов: 1) большие выходы — выходы в Господские праздники; 2) средние — выходы в храм Св. Софии только для того, чтобы из него при стечении народа начать процессию в иной храм; 3) малые выходы — в понедельник 1-й седмицы Великого поста, в праздник Воздвижения Креста Господня и в Неделю Православия (Беляев. 1893. С. 36). Однако, по мнению А. А. Дмитриевского, это деление неуместно и «…выход лучше ставить в зависимость от характера праздника» (Дмитриевский А. А. Историко-археологические и критические этюды к обряднику в изд. Рейске // РНБ ОР. Ф. 253. Д. 142. Маш.). Литургический интерес представляют выходы императора в храм Св. Софии, в богородичные храмы Халкопратийский и Влахернский, в храм св. Апостолов, в храмы дворцовые и прилегающие к Св. Софии, в храмы городские и монастырские. Дмитриевский (и это следует признать справедливым) считал, что адекватное прочтение трактата «О церемониях…» и построение цельной картины визант. придворного церемониала возможно только при привлечении литургических источников X в. и особенно — Дрезденского списка устава Великой церкви, проливающего свет на т. н. темные места трактата «О церемониях…».
Выходы императора в храм Св. Софии на Господские праздники (кроме праздников Входа Господня в Иерусалим и Вознесения (De cerem. I 1, 22)) имеют общие черты. Император молится перед святыми вратами храма, целуя висящие на них кресты, идет в алтарь со свечой в руках, делает поклоны престолу и целует лежащие на нем святыни, затем совершает каждение вокруг престола и уходит в митаторий, где слушает чтение из Евангелия и сугубую ектению. Далее императору подаются на утверждение списки приглашенных на обед к патриарху (De cerem. I 28). В зависимости от праздника могли быть и особенности в выходе императора: так, напр., на праздник Воздвижения Креста Господня император прикладывался к кресту. Кроме Господских праздников император также «выходил на богомолье» в храм Св. Софии в Неделю Православия, в Великие четверток и субботу, на праздник воссоединения Церкви, в понедельник 1-й седмицы Великого поста.
На Богородичные праздники император совершал выходы в др. храмы: на праздник Благовещения Пресв. Богородицы — в Халкопратийский храм; на праздники Рождества Богородицы, Сретения Господня и Успения Пресв. Богородицы, а также по случаю избавления от народных бедствий — во Влахернский.
С. Ю. Акишин
Ист.: Theoph. Cont.; Sym. Log. Chron.; Scyl. Hist.
Соч.: Const. Porphyr. De adm. imp. (рус. пер.: Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, пер., коммент. под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 19912); Die Byzantiner und ihre Nachbarn: Die «De administrando imperio» genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos / Übers., eingeleitet und erklärt von K. Belke und P. Soustal. W., 1995; Const. Porphyr. Dе cerimoniis aulae Byzantinae libri duo / Rec. I. I. Reiskii. Vol. 1-2. Bonnae, 1829-1830; Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies / Ed. A. Vogt. P., 1967. T. 1 (Livre I. Chap. 1-46 (37)); T. 2 (Livre I. Chap. 46(37)-92(83)); Constantine Porphyrogennetos. The Book of Ceremonies: With the Greek Ed. of the CSHB / Introd., transl. and comment. A. Moffatt, M. Tall. Canberra, 2012. 2 vol. (рус. частичный пер.: Константин Багрянородный. «О церемониях». Кн. 2. Гл. 15 / Пер. и коммент.: Н. Е. Новиков // Κανίσκιον: Юбил. сб. в честь 60-летия проф. И. С. Чичурова. М., 2006. С. 318-362); Const. Porphyr. De them. (рус. пер.: Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (De thematibus) и «О народах» (De administrando imperio) / Предисл.: Г. Ласкин. М., 1899); Σακελλίων ᾿Ι. Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογεννήτου ἐπιστολὴ πρὸς Γρηγόριον τὸν τῆς θεολογίας ἐπώνυμον // ΔΙΕΕ. 1885. Τ. 2. Σ. 261-265; Dobschütz E., von. Christusbilder: Untersuch. zur christl. Legende. Lpz., 1899. S. 39**-85**; The «Narratio de imagine Edessena» attributed to Constantine Porphyrogenitus // Guscin M. The Image of Edessa. Leiden; Boston, 2009. P. 7-69; Geoponica / Ed. H. Beckh. Lpz., 1895 (рус. пер.: Геопоники: Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. / Пер.: Е. Э. Липшиц. М.; Л., 1960); Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. B., 1903. Vol. 1. Pars 1: Excerpta de legationibus romanorum ad gentes; Pars 2: Excerpta de legationibus gentium ad Romanos / Ed. C. de Boor; 1906-1910. Vol. 2. Pars 1-2: Excerpta de virtutibus et vitiis / Ed. T. Büttner-Wobst, A. G. Roos; 1905. Vol. 3: Excerpta de insidiis / Ed. C. de Boor.; 1906. Vol. 4: Excerpta de sententiis / Ed. U. P. Boissevain; Vári R. Zum historischen Exzerptenwerke des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1908. Bd. 17. S. 75-85; Batareikh E. Discours inédit sur les Chaînes de S. Pierre attribué à S. Jean Chrysostome // Χρυσοστομικά: Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo. R., 1908. P. 973-1005; Δυοβουνιώτης Κ. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου λόγος ἀνέκδοτος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου // ΕΕΘΣΠΑ. 1924/1926. Τ. 1. Σ. 303-319; Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P., 1960. P. 317-341. (ArchOC; 6); Un discours inédit de Constantine VII Porphyrogénète / Éd. et comment.: H. Ahrweiler // TM. 1967. T. 2. P. 393-404; Three Treatises on Imperial Military Expeditions / Introd., ed., transl., comment. J. F. Haldon. W., 1990. (CFHB; 28); Flusin B. Le panégyrique de Constantin VII Porphyrogénète pour la translation des reliques de Grégoire le Théologien (BHG 728) // REB. 1999. T. 57. P. 5-97; [Фрагменты сочинений в рус. пер.]: Константин VII Багрянородный / Вступ. ст. и подбор текстов: С. П. Карпов // Антология мировой правовой мысли. Т. 2: Европа, V-XVII вв. М., 1999. С. 224-226; [Фрагменты сочинений в рус. пер.] // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2010. Т. 2: Визант. источники / Сост.: М. В. Бибиков. С. 139-171; Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur liber quo vita Basilii imperatoris amplecitur / Ed. I. Ševčenko. B.; Boston, 2011. (CFHB; 42).
Лит.: BHG, N 727-728, 794, 878d, 1486; Gesner J. M. Kleine deutsche Schriften. Gött., 1756; Thunmann J. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Lpz., 1774; Muralt E., de. Essai de chronographie byzantine: Pour servir à l’examen des annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes slavons, de 395 à 1057. St.-Pb., 1855; Rambaud A. N. L’Empire grec au dixième siècle: Constantin Porphyrogénète. P., 1870. N. Y., 1963r; Каневский Т. Выходы визант. императоров в церковь св. Софии в праздники Рождества Христова и Богоявления // ТКДА. 1872. Авг. С. 780-848; Марковин Н. Богомольные выходы рус. царей по сравнению с такими же выходами визант. императоров // Рус. древности. 1872. Т. 2. Янв. Прил. С. 1-73; Wäschke W. H. Über das von Reiske vermutete Fragment der Exzerpte Konstantins περ ἀναγορεύσεως. Dessau, 1878; idem. Studien zu den Ceremonien des Konstantinos Porphyrogennetos. Zerbst, 1884; Gemoll W. Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geoponica. B., 1883; De Boor C. Zu den Excerptsammlungen des Konstantin Porphyrogennetos // Hermes. 1884. Bd. 19. S. 123-148; idem. Suidas und die Konstantinische Excerptsammlung // BZ. 1912. Bd. 21. S. 381-424; 1914/1919. Bd. 23. S. 1-127; Беляев Д. Ф. Βυζαντινά: Очерки, материалы и заметки по визант. древностям. СПб., 1891-1906. Кн. 1-3; он же. Новый список древнего устава Константинопольских церквей // ВВ. 1896. Т. 3. С. 427-460; он же. Рец. на кн. иером. Иоанна (Рахманова) «Обрядник визант. двора как церк.-археол. источник» // Там же. С. 362-376; Иоанн (Рахманов), иером. Обрядник визант. двора (De cerimoniis aulae byzantinae) как церк.-археол. источник. М., 1895; Дмитриевский А. А. Предполагаемые и действительные вновь открытые комментарии к «Обряднику» Константина Порфирогенета // ЧИОНЛ. 1903. Кн. 17. Вып. 2. Отд. 1. С. 69-73; он же. Историко-археологические и критические этюды к обряднику в издании Рейске (рукопись) // РНБ ОР. Ф. 253. Д. 141, 142, 155; Bury J. B. The Treatise De administrando imperio // BZ. 1906. Bd. 15. S. 517-577; idem. The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos // EHR. 1907. Vol. 22. N 86. P. 209-227; N 87. P. 417-489; Büttner-Wobst Th. Die Anlage der historischen Encyklopädie des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1906. Bd. 15. S. 88-120; Латышев В. В. К вопросу о лит. деятельности Константина Багрянородного // ВВ. 1916. Т. 22. С. 13-20; Täubler E. Zur Beurteilung der constantinischen Exzerpte // BZ. 1925. Bd. 25. S. 33-40; Grumel V. Une date historico-liturgique: Τῇ τρίτῃ τῆς Γαλιλαίας // EO. 1937. T. 36. P. 52-64; Alexander P. J. Secular Biography in Byzantium // Speculum. 1940. Vol. 15. P. 194-209; Dain A. L’encyclopédisme de Constantin Porphyrogénète // Lettres d’Humanité. 1953. Vol. 12. P. 64-81; Ostrogorsky G. Sur la date de la composition du Livre des thèmes et sur l’époque de la constitution des premiers thèmes d’Asie Mineure // Byz. 1953 [1954]. T. 23. P. 31-66; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 551-552; Mango C., Ševčenko I. A New Manuscript of the «De Cerimoniis» // DOP. 1960. Vol. 14. P. 247-249; Grierson Ph., Jenkins R. J. H. The Date of Constantine VII’s Coronation // Byz. 1962. T. 32. P. 131-138; Jenkins R. J. H. The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867-913 // DOP. 1965. Vol. 19. P. 89-112; Oikonomides N. Constantin VII Porphyrogénète et les thèmes de Céphalonie et de Longobardie // REB. 1965. T. 23. P. 118-123; Sorlin I. Le témoignage de Constantin VII Porphyrogénète sur l’état ethnique et politique de la Russie au début du Xe siècle // Cahiers du monde russe et soviétique. P., 1965. Vol. 6. N 2. P. 147-188; Ševčenko I. Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes // DOP. 1969/1970. Vol. 23/24. P. 185-228; он же. (Шевченко И. И.). Перечитывая Константина Багрянородного // ВВ. 1993. Т. 54 (79). С. 6-38; Moravcsik Gy. Byzantium and the Magyars. Bdpst., 1970; idem. Byzantinoturcica: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Leiden, 1983. Bd. 1. S. 356-390; Lemerle P. Le premier humanisme byzantin: Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. P., 1971. P. 268-292; Lounghis T. C. Sur la date du De Thematibus de Constantin Porphyrogénète // REB. 1973. T. 31. P. 299-305; Pingree D. The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus // DOP. 1973. Vol. 27. P. 217-231; Toynbee A. J. Constantine Porphyrogenitus and his World. L., 1973; Rochow J. Bemerkungen zu der Leipziger Handschrift des «Zeremonienbuches» des Konstantinos Porphyrogennetos und zu der Ausgabe von J. J. Reiske // Klio. 1976. Vol. 58. S. 193-197; Ripoche J.-P. Constantin VII Porphyrogénète et sa politique hongroise au milieu du Xe siècle // Südost-forschungen. Münch., 1977. Bd. 36. S. 1-12; Hunger. Literatur. Bd. 1. S. 360-367; Huxley G. L. The Scholarship of Constantine Porphyrogenitus // Proc. of the Royal Irish Academy. Sect. C: Archaeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature. 1980. Vol. 80. P. 29-40; Литаврин Г. Г. О датировке посольства кнг. Ольги в Константинополь // История СССР. 1981. № 5. С. 173-183; он же. Путешествие рус. кнг. Ольги в Константинополь: Проблема источников // ВВ. 1981. Т. 42 (67). С. 35-48; он же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // История, культура, этнография и фольклор слав. народов: IX Междунар. съезд славистов. М., 1983. С. 62-76; он же. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения кнг. Ольги // ДГСССР, 1985. М., 1986. С. 49-57; он же. Русско-визант. связи в сер. Х в. // ВИ. 1986. № 6. С. 41-52; он же. Константин Багрянородный о Болгарии и болгарах // Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред.: В. Велков. София, 1994. С. 30-37; он же. Византия, Болгария, Др. Русь (IX — нач. XII в.). СПб., 2000. С. 174-190; Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42(67). С. 171-183; Ahrweiler H. Sur la date du De Thematibus de Constantin VII Porphyrogénète // TM. 1981. T. 8. P. 1-5; Tartaglia L. Livelli stilistici in Costantino Porfirogenito // JÖB. 1982. Bd. 32. H. 3. S. 197-206; Семеновкер Б. А. Энциклопедии Константина Багрянородного: Библиогр. аппарат и проблемы атрибуции // ВВ. 1984. Т. 45(70). С. 242-246; Cameron A. The Construction of Court Ritual: The Byzantine Book of Ceremonies // Rituals of Royalty: Power and Ceremonial in Traditional Societies. Camb., 1987. P. 106-136; Schreiner P. Die Historikerhandschrift Vaticanus graecus 977: Ein Handexemplar zur Vorbereitung der Konstantinischen Exzerptenwerkes? // JÖB. 1987. Bd. 37. S. 1-29; Агрба И. Ш. Константин Багрянородный и нек-рые вопросы истории Абхазского царства (кон. VIII-X в.) // ВМУ: Ист. 1988. № 5. С. 79-85; Luzzi A. Note sulla recensione del Sinassario di Costantinopoli patrocinata da Costantino VII Porfirogenito // RSBN. N. S. 1989. T. 26. P. 139-186; idem. L’«ideologia costantiniana» nella liturgia dell’età di Costantino VII Porfirogenito // Ibid. 1991. T. 28. P. 113-124; Κωνσταντῖνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του. Β´ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση (Δελφοί, 22-26 Ιουλίου 1987) / Εκδ. Α. Μαρκόπουλος. Αθήνα, 1989; Beaud B. Le savoir et le monarque: Le «Traité sur les nations» de l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète // Annales: Économies, sociétés, civilisations. P., 1990. Vol. 45. N 3. P. 551-564; Odorico P. La cultura della συλλογή // BZ. 1990. Bd. 83. S. 1-21; Kazhdan A. P., Cutler A. Constantine VII Porphyrogennetos // ODB. 1991. P. 502-503; Lee D., Shepard J. A Double Life: Placing the Peri Presbeon // Bsl. 1991. Vol. 52. P. 15-39; Treadgold W. T. The Army in the Works of Constantine Porphyrogenitus // RSBN. N. S. 1992. T. 29. P. 77-162; Koder J. Gemüse in Byzanz: Die Versorgung Konstantinopels mit Frischgemüse im Lichte der Geoponika. W., 1993; Макарий. История РЦ. М., 1994п. Кн. 1; Pratsch Th. Untersuchungen zu De thematibus Kaiser Konstantins VII. Porphyrogennetos // Varia. Bonn, 1994. Bd. 5. S. 13-145. (Ποικίλα Βυζαντινά; 13); Sode C. Untersuchungen zu De administrando imperio Kaiser Konstantins VII Porphyrogennetos // Ibid. S. 147-260; Svoronos N. Les novelles des empereurs Macédoniens concernant la terre et les stratiotes / Édition posthume et index établis par P. Gounaridis. Athènes, 1994; Αντωνόπουλος Π. Τ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι. Αθήνα, 1996; Malamut E. Constantin VII et son image de l’Italie // Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jh. / Hrsg. E. Konstantinou. Köln, 1997. S. 269-292; Dagron G. L’organisation et déroulement des courses d’après le Livre des Cérémonies: Avec une Note sur l’hippodrome de Constantinople vu par les Arabs par S. Métivier // TM. 2000. Vol. 13. P. 3-200; Haldon J. F. Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies // Ibid. P. 201-352; Kresten O. «Staatsempfange» im Kaiserpalast von Konstantinopel um die Mitte des 10. Jahrhunderts: Beobachtungen zu Kapitel II, 15 des sogennanten «Zeremonienbuches». W., 2000; idem. Sprachiche und inhaltliche Beobachtungen zu Kapitel I 96 des sogennanten «Zeremonienbuches» // BZ. 2000. Bd. 93. S. 474-489; idem. Nochmals zu De cerimoniis I 96 // JÖB. 2005. Bd. 55. S. 87-98; Martin-Hisard B., Zuckerman C., Malamut É., Martin J.-M. Byzance et ses voisins: Études sur certains passages du Livre des Cérémonies II, 15 et 46-48 // TM. 2000. Vol. 13. P. 353-672; Назаренко А. В. Древняя Русь на междунар. путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, полит. связей IX-XII вв. М., 2001; Flusin B. L’empereur hagiographe: Remarques sur le rôle des premiers empereurs macédoniens dans le culte des saints // L’empereur hagiographe: Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine / Ed. P. Guran, B. Flusin. Bucur., 2001. P. 29-54; Featherstone M. J. Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis // BZ. 2002. Bd. 95. S. 457-479; idem. Olga’s Visit to Constantinople in «De Cerimoniis» // REB. 2003. T. 61. P. 241-251; idem. Further Remarks on the «De Cerimoniis» // BZ. 2004. Bd. 97. S. 113-121; idem. The Chrysotriklinos as Seen through «De Cerimoniis» // Zwischen Polis, Provinz und Peripherie: Beitr. zur byzant. Geschichte und Kultur / Hrsg. L. M. Hoffmann. Wiesbaden, 2005. S. 845-852; idem. The Great Palace as Reflected in the De Cerimoniis // Visualisierungen von Herrschaft / Hrsg. F. A. Bauer. Istanbul, 2006. S. 47-61; idem. De Cerimoniis: The Revival of Antiquity in the Great Palace and the «Macedonian Renaissance» // The Byzantine Court: Source of Power and Culture. Istanbul, 2013. P. 139-144; Koutava-Delivoria B. La contribution de Constantin Porphyrogénète à la composition des Geoponica // Byz. 2002. T. 72. P. 365-380; Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод визант. свидетельств о Руси. М., 2004. С. 46-52, 222-236; Featherstone M., Grusková J., Kresten O. Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten Zeremonienbuches: 1. Prolegomena // BZ. 2005. Bd. 98. H. 2. S. 423-430; Арутюнова-Фиданян В. А. «Закавказское досье» Константина Багрянородного: Информация и информаторы // Визант. очерки. СПб., 2006. С. 5-18; Кузенков П. В. Реальная политика или великодержавная идеология?: Византийская дипломатия X в. по данным трактатов Константина Багрянородного // История: дар и долг: Юбил. сб. в честь А. В. Назаренко. М.; СПб., 2010. С. 73-99; Каждан А. П. История визант. лит-ры (850-1000 гг.). СПб., 2012. С. 144-157; Magdalino P. Knowledge in Authority and Authorised History: The Imperial Intellectual Programme of Leo VI and Constantine VII // Authority in Byzantium / Ed. P. Armstrong. Farnham, 2013. P. 187-209; Németh A. The Imperial Systematization of the Past in Constantinople: Constantine VII and His «Historical Excerpts» // Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance / Ed. J. König, G. Woolf. Camb., 2013. P. 232-258.
С. Ю. Акишин, П. В. Кузенков, Л. В. Луховицкий
Императоры византийские
Писатели византийские
Константин VII Багрянородный (Порфирородный)] [Порфирогеннет (905-959), византийский император (самостоятельно с 945), писатель
ИОАНН КАНТАКУЗИН (ок. 1295 — 1383), в монашестве Иоасаф (с 4 или 10 дек. 1354), византийский император (Иоанн VI Кантакузин; 1341-1354), гос. деятель, богослов, писатель
МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ (1350 — 1425), визант. император (c 27.06.1391), богослов, писатель
АЛЕКСАНДР (ок. 870-913), имп. Византии (с 11 мая 912)
АЛЕКСЕЙ I КОМНИН (ок. 1057-1118), визант. император с 1081
АЛЕКСЕЙ II КОМНИН (1169 – 1183), визант. имп. с 1180
АЛЕКСЕЙ III АНГЕЛ КОМНИН (ок.1153-1211 или 1212), визант. имп. в 1195 – 1203
-
-
December 8 2017, 03:51
- История
- Cancel
Давно известно и не оспаривается, что впервые термин «Росия» (греч. Ρωσία), как греческое название государства Русь, встречается в X веке в трактатах византийского императора Константина VII Багрянородного «О церемониях» и «Об управлении империей». Все это известно давным-давно, но если уж люди интересуются, как это выглядело в греческом письме, то вот вам оно самое.
Греческий текст из трактата «Об управлении империей» под редакцией Дьюла Моравчика, венгерского византиста, взят из этой книги. Английский перевод британского византиста Дженкинса.
И вот отрывок про Россию на греческом языке.
Перевод на русский взят с сайта Востлит. Можете сравнить с греческим оригиналом.
«9. О росах 1, отправляющихся с моноксилами 2 из Росии 3 в Константинополь
[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочие Славинии — рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам, росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр.
»
Поясняю. Немогард — Новгород. Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии — Святослав, сын Игоря, князя Руси. Милиниски — Смоленск. Телиуцы — скорее всего Любич. Чернигоги и из Вусеграда — Чернигов и Вышеград. «рубят в своих горах моноксилы» — летописный «оковский лес», т.е. Валдай.
Тем, кому не по нраву русский перевод, всегда могут насладиться расово верным английским.
Рукописи трактата «Об управлении империей» Константина Багрянородного хранятся в Париже (2 списка) и в Ватикане (1 список).
Ну и небольшое пояснение по теме А.В. Соловьева, русского историка и филолога.
Оригинал
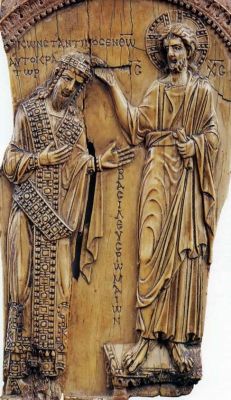 |
| Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 года (ГМИИ) |
Константин VII Багрянородный (Порфирородный; греч. Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος; 905 — 959), византийский император (в 913-919 под опекой регентов, в 919-944 совместно с Романом I Лакапином, самостоятельно с 27 января 945), писатель
Родился в 905 году, предположительно 17/18 мая [1] или 2/3 сентября [2], и был первенцем имп. Льва VI Мудрого и его четвертой жены, Зои Карвонопсины (Карвонопсиды, букв. «Черноокой»). В предыдущих трех браках у императора не было сыновей, что ставило под угрозу продолжение Македонской династии. Рождение Константина омрачалось тем, что его мать, хотя и проживала во дворце, с церковно-канонической т. зр. не считалась законной супругой императора. Тем самым Константин, хотя и родился в Багряной палате Большого дворца (в Порфире), формально оказывался незаконнорожденным. По-видимому, именно для того, чтобы подчеркнуть его права на престол, за Константином закрепилось прозвание «Багрянородный»: так называли только тех детей, которые рождались уже у царствующих императоров. Неопределенность статуса Константина грозила резко осложнить политическое будущее не только его самого, но и всей империи. Ввиду исключительности ситуации патриарх Николай I Мистик согласился признать Константина законным сыном Льва VI и полноправным наследником, но категорически потребовал от императора расстаться с Зоей. Это условие было выполнено, и 6 января 906 года младенец был торжественно крещен патриархом в соборе Св. Софии. Восприемниками выступали брат и соправитель Льва Александр и высшие сановники. Вскоре, однако, Лев не только вернул Зою во дворец, но и сочетался с ней церковным браком (церемонию без разрешения патриарха совершил придворный пресв. Фома). Патриарх Николай Мистик немедленно наказал клирика, а императора отлучил от Церкви. Лев VI предложил рассмотреть сложившуюся ситуацию на Соборе с участием представителей всех патриархатов. Ни на Рождество, ни на Богоявление 907 года император не был допущен патриархом в Св. Софию. Отношения между ними накалились. После того как очередная попытка убедить Николая Мистика пойти на уступки потерпела неудачу, Лев VI обвинил его в связях с полководцем Андроником Дукой, поднявшим в это время мятеж на Востоке, и добился отречения патриарха от сана (февраль 907). Новым патриархом стал духовный наставник императора синкелл Евфимий II. Собор с участием представителей папы Сергия III принял императора в церковное общение после его покаяния (в память об этом событии была создана мозаика в нартексе Св. Софии). Тем не менее конфликт вокруг четвертого брака Льва VI вызвал затяжной внутрицерковный раскол, продолжавшийся до «Объединительного Собора» 920 года.
15 мая 908 года [3] Константин VII был коронован как соправитель Льва VI и его брата Александра. Через четыре года Лев умер, и дядя Константина стал автократором. Имп. Александр не имел детей, но надеялся обзавестись ими, вступив в новый брак. Племянника он не любил, открыто выражая намерение отстранить его от престола и сделать евнухом, но за ребенка всякий раз вступались сановники [4]. Правление Александра оказалось недолгим: 6 июня 913 года император скоропостижно скончался (ходили слухи, что он переусердствовал со снадобьями). Перед смертью он передал власть малолетнему Константину VII, назначив его опекунами патриарха Николая Мистика (вновь стал патриархом в мае 912), магистров Стефана и Иоанна Эладу, ректора Иоанна, мон. Евфимия и своих фаворитов, Василицу и Гаврилопула. К ним вскоре присоединилась и имп. Зоя.
Смена правления произошла в момент резкого обострения внешнеполитической ситуации. Покойный император успел рассориться с опасным соседом, Симеоном Болгарским, и в Константинополе со дня на день ждали вторжения болгар. Еще во время предсмертной болезни Александра патриарх Николай тайно пригласил в столицу популярного в армии и народе полководца, доместика схол Константина Дуку. Но когда тот 9 июня спешно явился в Константинополь с небольшим отрядом, выяснилось, что регентский совет (куда вошел и Николай) не намерен уступать ему власть. Попытка Дуки захватить дворец силой не увенчалась успехом: он был оттеснен стражей и погиб. Его многочисленные сторонники подверглись жестоким казням и другим репрессиям.
После подавления мятежа Дуки во главе правительства встали патриарх Николай и магистры Стефан и Иоанн Элада. В августе к Константинополю, не встречая серьезного сопротивления, подошли войска Симеона. Но взять город болгары не смогли, и они начали переговоры. Патриарх устроил встречу юного императора с сыновьями болгарского правителя (обговаривались планы обручения Константина VII с их сестрой) и символически венчал на трон Симеона во время личной встречи (913). Византийцы пытались иронизировать над деталями коронации болгарского правителя [5]. Однако для болгар это событие было важнейшей политической победой. Отныне Симеон считал себя равным по статусу «василевсу ромеев» и принял титул «цесарь и самодержец всех болгар и греков».
Уступки регентов вызвали недовольство. Властолюбивая Зоя отстранила от правления патриарха Николая и разорвала соглашение с болгарами о династическом союзе. Готовя контрнаступление в Болгарии, правительство заключило мир с арабами. Но объединенная имперская армия во главе с Львом Фокой была разгромлена Симеоном сначала при Анхиале (20 августа 917), а затем во Фракии (917/918).
В ситуации, когда положение империи ухудшилось, в окружении юного Константина VII созрел заговор в пользу одного из военачальников, друнгария флота (адмирала) Романа Лакапина. Заручившись формальной поддержкой императора, он помог Константину VII отстранить от власти Зою, а затем, под предлогом защиты императора от поднявшего мятеж Льва Фоки, захватил Большой дворец. 4 мая 919 года Роман породнился с правящей династией, выдав замуж за 14-летнего Константина VII свою дочь Елену, и получил сан василеопатора. Одним из первых его деяний стало примирение церковного раскола между сторонниками патриархов Николая и Евфимия (июль 920).
Осенью 920 года Роман Лакапин получил сан кесаря, а в декабре был коронован зятем в качестве императора-соправителя. Возвышение выскочки вызвало целую серию заговоров и мятежей, но Роман не только сумел удержаться у власти, но и приобщил к ней трех своих сыновей — Христофора (921), Стефана и Константина (924); его четвертый сын, болезненный Феофилакт, в 933 году был, несмотря на неполные 20 лет, поставлен патриархом Константинопольским (разрешение на поставление доставили посланцы папы Римского Иоанна XI, которому самому было всего 23 года). В 922 году Роман I был объявлен автократором, оттеснив Константина на второе место.
Так в Византии на полвека утвердилась новая форма правления, когда юных отпрысков Македонской династии опекали прорывавшиеся к власти опытные военачальники, которые не довольствовались положением регентов, но получали полноценный императорский сан. Это позволяло, с одной стороны, сохранять преемство легитимности, а с другой — обеспечивать высокий уровень компетентности военного и государственного управления. Однако «природные» наследники оказывались в этой ситуации под постоянной угрозой устранения.
Война с Болгарией продолжалась вплоть до 924 года. Основным поводом для враждебных действий «царь болгар и греков» Симеон объявил защиту законного имп. Константина VII от «узурпатора» Романа Лакапина [6]. После личной встречи с Романом Симеон согласился на перемирие, хотя и не отказался от своих притязаний на империю. В 927 году юный сын и наследник Симеона Петр добился от византийского правительства не только признания своего царского титула, но и согласия на династический союз: женой Петра стала внучка Романа I Мария. Во время свадебных торжеств по требованию болгар отец Марии, император Христофор, был поставлен на второе место в иерархии императоров, оттеснив Константина на третье [7].
Долгое время Константин VII находился в тени своего деятельного тестя. Отстраненный от реальной власти он предавался историческим изысканиям и литературным трудам. Бразды правления Константин VII взял в свои руки лишь на 40-м году жизни. Незадолго до этого, 16 декабря 944 года, Роман I Лакапин был смещен с престола своими сыновьями Стефаном и Константином (их старший брат, Христофор, к тому времени уже умер) и отправлен в монастырь. Однако «триумвират» Стефана и двух Константинов продержался недолго. Багрянородный сын Льва VI пользовался гораздо большей популярностью, чем сыновья безродного выскочки. Уже 20 декабря 944 года Константин VII был провозглашен автократором, а еще спустя месяц, 27 января 945 года, в ходе очередного дворцового переворота сыновья Лакапина были арестованы по обвинению в покушении на Константина VII и отправлены в ссылку.
Уже через месяц после начала самостоятельного правления Константин VII короновал в качестве соправителя своего юного сына Романа II, закрепив тем самым династическое преемство. Полномочия парадинастевона (неофициального главы правительства) при этом получил молодой евнух Василий, незаконнорожденный сын (νόθος) Романа Лакапина от наложницы-«скифянки». Он оставался самым влиятельным лицом в государстве до кончины Константина VII, а впоследствии — и при его внуках (до 985).
Достигнув высшей власти, Константин VII получил возможность на практике воплотить политические идеи, выработанные им за время продолжительных ученых занятий. Он объявил курс на коренной пересмотр политической линии своего тестя, которого называл человеком «простоватым» и обвинял в недопустимых идеологических уступках.
В попытках восстановить авторитет империи военным путем Константин VII не достиг крупных успехов, хотя и не знал таких катастрофических поражений, как его предшественники. Самой крупной неудачей его самостоятельного правления был провал экспедиции Константина Гонгилы, пытавшейся в очередной раз освободить остров Крит от захвативших его арабских пиратов (949). На основных фронтах сражений с мусульманами — в Южной Италии и Сирии — продолжалась позиционная война. Успехи талантливых имперских полководцев Варды Фоки и его сына Никифора были нивелированы активностью амбициозного халебского правителя, хамданида Сайфа ад-Даулы, который с 943 года был главным противником Византии на востоке.
Более удачно Константин VII действовал в дипломатической сфере. Приоритетным направлением его политики стали отношения с мусульманским Востоком. Пользуясь углублявшимся кризисом Аббасидского халифата, Константин VII установил стратегический союз с полуавтономным египетским правителем из династии Ихшидидов Мухаммадом ибн Тугджем (946), а также поддерживал оживленные контакты с соперниками Аббасидов — омейядским халифом Кордовы Абдаррахманом III, африкан. Фатимидами и даже Зайдитскими имаматами в Йемене и Табаристане. Об амбициозных планах расширения влияния империи в распадавшемся Багдадском халифате свидетельствует упоминание в «Книге церемоний» Константина VII послов из Египта, Персии или Хорасана, «подчиняющихся царству ромеев и присылающих пакт» [8].
На Кавказе, в Южной Италии и на западе Балканского полуострова Константин VII продолжал традиционную политику, опиравшуюся на исторические связи этих регионов с империей. Многочисленные местные династы рассматривались, как правило, в качестве «подчиненных» императора, хотя возможности Константинополя для реальной военной и политической активности в этих регионах были весьма скромными.
Отношения с Болгарией, в первой половине правления Константина VII бывшей опаснейшим соперником Византии, после кончины Симеона вошли в мирное русло. Стабильному миру способствовали уступки, сделанные Романом I Петру Болгарскому, — признание его «василевсом болгар» и женитьба на внучке императора. Константин VII неодобрительно относился к этому династическому браку (с которым, помимо всего прочего, было связано и его личное унижение), считая его совершенно недопустимым и ничем не оправдываемым нарушением имперского статуса [9]. Из дипломатических формуляров известно, что Константин VII поначалу не признавал за Петром царского титула, продолжая титуловать его «архонтом» и называя «духовным сыном». Но позднее он все же использовал в переписке с Петром титул «василевс болгар» [10]. Была признана и автономия Болгарской Церкви: в составленной при Константине VII церемониальной табели о рангах (т. н. Клиторологий Филофея) архиепископ Болгарский следует сразу за синкеллами патриархов [11].
Особое место в политике Константине VII занимала Русь. Незадолго до свержения, в 944 году, Роман I заключил мирный договор с вел. кн. Игорем ([12]; заключен от имени Романа, Константина и Стефана). Вскоре Игорь был убит, и у власти на Руси оказалась его вдова Ольга, регентша при малолетнем сыне Святославе. Константин VII, на собственном опыте знавший о специфике женского правления, по всей вероятности рассчитывал воспользоваться ослаблением Русского государства. Возможно, именно поэтому княгиня Ольга решилась на редкий в средневековой политической практике и весьма рискованный шаг: лично отправилась за границу для переговоров. Официальный визит женщины, стоявшей во главе государства, был экстраординарным явлением с точки зрения придворного этикета, и благодаря этому в составленной под редакцией Константина VII кн. «О церемониях…» сохранилось подробнейшее описание двух приемов, оказанных княгине Ольге в Константинополе — в среду 9 сентября и в воскресенье 18 октября [13]. Сочетание числа месяца и дня недели теоретически допускает две даты — 946 и 957 годы; позиции исследователей по этому вопросу разделились [14]. Судя по тональности упоминаний о «росах» вообще и их правительнице в частности в сочинениях Константина VII, Ольге удалось отстоять интересы Руси и сохранить ее международный авторитет. Помимо этого русская княгиня приняла в Константинополе крещение по греческому обряду, получив имя Елена. Согласно традиции, ее восприемником должен был выступать сам император, что нашло специфическое отражение в летописной легенде о «хитрости» русской княгини: император якобы соблазнился ее красотой и собирался на ней жениться, но Ольга, крестившись, оказалась его крестной дочерью, что сделало брак невозможным [15]. Константин VII не счел нужным упоминать о крещении русской правительницы, хотя о событии известно из хроники Иоанна Скилицы [16]. Славянские и латинские источники дополняют сведения о посольстве Ольги: согласно Повести временных лет, она не была удовлетворена результатами визита в Константинополь и высокомерно отказалась предоставить Константину VII военную помощь, а согласно Продолжателю хроники Регинона Прюмского, в 959 году обратилась к германскому императору Оттону I с просьбой прислать на Русь епископов и священников [17].
Скилица упоминает о венгерском векторе «государственного миссионерства» при Константине VII. Кочевники-протовенгры, в племенном союзе которых существенную роль играли тюркские элементы (откуда и греческое название венгров X века — Τοῦρκοι), после проникновения в Придунавье более полувека совершали регулярные грабительские рейды по всем европейским странам, не исключая и западных провинций Византии. Но к середине X века венгерские вожди все чаще стали искать возможности для политической институализации среди соседних государств. Около 952 года венгерские князья Булчу и Дьюла приняли крещение в Константинополе, получив от императора не только богатые дары, но и титулы. Император привез с собой и мон. Иерофея, которого рукоположили во епископа венгров. Это определило первоначальную греко-византийскую ориентацию венгерского христианства, лишь позднее переориентировавшегося на латинский Рим [18].
Во внутренней политике Константин VII также провозглашал определенный разрыв с политикой своего предшественника: в частности, намеревался облегчить налоги. Однако на практике законодательные меры Константина VII являлись продолжением политики Романа I. Так, новелла 947 года по сути повторяла знаменитые новеллы Романа Лакапина о защите мелких землевладельцев [19]. В социальной политике Константин VII пытался совмещать «демократическую» линию Романа, ориентированную на поддержку бедных слоев населения и сдерживание растущих аппетитов т. н. динатов (богатых и влиятельных землевладельцев), с ориентацией его отца на аристократизацию государственной, прежде всего армейской, элиты. Именно в правление Константина VII в Византии быстрыми темпами зарождается родовая аристократия, о чем свидетельствует появление отсутствовавших ранее устойчивых фамильных прозвищ.
Константин Багрянородный скончался 9 ноября 959 года в Константинополе. Ему наследовал родной сын, Роман II.
Сочинения
Константин VII — центральная фигура византийского энциклопедизма X века, под его именем издано множество произведений, однако их атрибуция остается предметом научной полемики. Уже в византийской историографической традиции Константину VII было ошибочно приписано авторство нескольких трудов, которые не могли ему принадлежать. Так, Иоанн Зонара (XII в.), восхваляя риторическое искусство и стилистическое мастерство Константина VII, в т. ч. упоминал и о его умении работать с разными стихотворными метрами и о том, что Константин VII составил поэтическую эпитафию своей супруге Елене [20], однако это невозможно, поскольку она пережила его [21]. Основная сложность связана с тем, что большая часть сочинений спорного авторства создавалась по инициативе Константина VII и в его окружении, однако мера личного участия императора не может быть установлена с какой-либо точностью. Согласно наиболее радикальной гипотезе, высказанной И. И. Шевченко, уровень владения Константином VII литературным греческим языком высокого стиля был не очень высок, о чем можно судить по немногим произведениям, которые атрибутируют ему с абсолютной точностью; к ним относятся восемь посланий к Феодору, митр. Кизическому [22]. В посланиях император неоднократно сетовал на свою малограмотность, однако в какой мере эти утверждения отражают действительное положение дел, а в какой — являются типичным для византийского эпистолярного этикета топосом самоуничижения, судить сложно [23]. В ряде случаев, прежде всего когда речь идет о масштабных энциклопедических проектах, Константину VII принадлежит вступление к сочинению, а основная часть создана анонимным автором или коллективом авторов под его руководством. Ценным свидетельством о методе работы Константина VII является его ремарка в одном из посланий к Феодору о том, что император «выбрал его, чтобы тот составил для него некую речь» [24]. Шевченко считает, что все сочинения, приписываемые Константину VII, кроме посланий, в той или иной мере подвергались профессиональной редактуре [25].
Наиболее известные сочинения, приписываемые императору Константину или созданные при его участии:
- Об управлении империей (лат. De administrando imperio)
- О фемах (лат. De thematibus; греч. Περ τῶν θεμάτων)
- Жизнеописание имп. Василия I Македонянина
- Эксцерпты (лат. Excerpta; греч. ᾿Εκλογαί)
- Геопоники (лат. Geoponica; греч. Περ γεωργίας ἐκλογαί)
- О военных походах
- О церемониях византийского двора (лат. De cerimoniis aulae Byzantinae)
Под именем Константина Багрянородного дошел также ряд малых сочинений светской и церковной тематики.
Литература
- Theoph. Cont.;
- Sym. Log. Chron.;
- Scyl. Hist;
- Const. Porphyr. De adm. imp. (рус. пер.: Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, пер., коммент. под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 19912);
- Die Byzantiner und ihre Nachbarn: Die «De administrando imperio» genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos / Übers., eingeleitet und erklärt von K. Belke und P. Soustal. W., 1995;
- Const. Porphyr. Dе cerimoniis aulae Byzantinae libri duo / Rec. I. I. Reiskii. Vol. 1-2. Bonnae, 1829-1830;
- Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies / Ed. A. Vogt. P., 1967. T. 1 (Livre I. Chap. 1-46 (37)); T. 2 (Livre I. Chap. 46(37)-92(83));
- Constantine Porphyrogennetos. The Book of Ceremonies: With the Greek Ed. of the CSHB / Introd., transl. and comment. A. Moffatt, M. Tall. Canberra, 2012. 2 vol. (рус. частичный пер.: Константин Багрянородный. «О церемониях». Кн. 2. Гл. 15 / Пер. и коммент.: Н. Е. Новиков // Κανίσκιον: Юбил. сб. в честь 60-летия проф. И. С. Чичурова. М., 2006. С. 318-362);
- Const. Porphyr. De them. (рус. пер.: Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (De thematibus) и «О народах» (De administrando imperio) / Предисл.: Г. Ласкин. М., 1899);
- Σακελλίων ᾿Ι. Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογεννήτου ἐπιστολὴ πρὸς Γρηγόριον τὸν τῆς θεολογίας ἐπώνυμον // ΔΙΕΕ. 1885. Τ. 2. Σ. 261-265;
- The «Narratio de imagine Edessena» attributed to Constantine Porphyrogenitus // Guscin M. The Image of Edessa. Leiden; Boston, 2009. P. 7-69;
- Geoponica / Ed. H. Beckh. Lpz., 1895 (рус. пер.: Геопоники: Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. / Пер.: Е. Э. Липшиц. М.;
- Л., 1960);
- Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. B., 1903. Vol. 1. Pars 1: Excerpta de legationibus romanorum ad gentes; Pars 2: Excerpta de legationibus gentium ad Romanos / Ed. C. de Boor; 1906-1910. Vol. 2. Pars 1-2: Excerpta de virtutibus et vitiis / Ed. T. Büttner-Wobst, A. G. Roos; 1905. Vol. 3: Excerpta de insidiis / Ed. C. de Boor.; 1906. Vol. 4: Excerpta de sententiis / Ed. U. P. Boissevain;
- Vári R. Zum historischen Exzerptenwerke des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1908. Bd. 17. S. 75-85;
- Batareikh E. Discours inédit sur les Chaînes de S. Pierre attribué à S. Jean Chrysostome // Χρυσοστομικά: Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo. R., 1908. P. 973-1005;
- Δυοβουνιώτης Κ. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου λόγος ἀνέκδοτος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου // ΕΕΘΣΠΑ. 1924/1926. Τ. 1. Σ. 303-319;
- Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P., 1960. P. 317-341. (ArchOC;
- 6);
- Un discours inédit de Constantine VII Porphyrogénète / Éd. et comment.: H. Ahrweiler // TM. 1967. T. 2. P. 393-404;
- Three Treatises on Imperial Military Expeditions / Introd., ed., transl., comment. J. F. Haldon. W., 1990. (CFHB; 28);
- Flusin B. Le panégyrique de Constantin VII Porphyrogénète pour la translation des reliques de Grégoire le Théologien (BHG 728) // REB. 1999. T. 57. P. 5-97; [Фрагменты сочинений в рус. пер.]: Константин VII Багрянородный / Вступ. ст. и подбор текстов: С. П. Карпов // Антология мировой правовой мысли. Т. 2: Европа, V-XVII вв. М., 1999. С. 224-226; [Фрагменты сочинений в рус. пер.] // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2010. Т. 2: Визант. источники / Сост.: М. В. Бибиков. С. 139-171;
- Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur liber quo vita Basilii imperatoris amplecitur / Ed. I. Ševčenko. B.;
- Boston, 2011. (CFHB; 42);
- BHG, N 727-728, 794, 878d, 1486;
- Gesner J. M. Kleine deutsche Schriften. Gött., 1756;
- Thunmann J. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Lpz., 1774;
- Muralt E., de. Essai de chronographie byzantine: Pour servir à l’examen des annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes slavons, de 395 à 1057. St.-Pb., 1855;
- Rambaud A. N. L’Empire grec au dixième siècle: Constantin Porphyrogénète. P., 1870. N. Y., 1963r;
- Каневский Т. Выходы визант. императоров в церковь св. Софии в праздники Рождества Христова и Богоявления // ТКДА. 1872. Авг. С. 780-848;
- Марковин Н. Богомольные выходы рус. царей по сравнению с такими же выходами визант. императоров // Рус. древности. 1872. Т. 2. Янв. Прил. С. 1-73;
- Wäschke W. H. Über das von Reiske vermutete Fragment der Exzerpte Konstantins περ ἀναγορεύσεως. Dessau, 1878;
- idem. Studien zu den Ceremonien des Konstantinos Porphyrogennetos. Zerbst, 1884;
- Gemoll W. Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geoponica. B., 1883;
- De Boor C. Zu den Excerptsammlungen des Konstantin Porphyrogennetos // Hermes. 1884. Bd. 19. S. 123-148;
- idem. Suidas und die Konstantinische Excerptsammlung // BZ. 1912. Bd. 21. S. 381-424; 1914/1919. Bd. 23. S. 1-127;
- Беляев Д. Ф. Βυζαντινά: Очерки, материалы и заметки по визант. древностям. СПб., 1891-1906. Кн. 1-3;
- он же. Новый список древнего устава Константинопольских церквей // ВВ. 1896. Т. 3. С. 427-460;
- он же. Рец. на кн. иером. Иоанна (Рахманова) «Обрядник визант. двора как церк.-археол. источник» // Там же. С. 362-376;
- Иоанн (Рахманов), иером. Обрядник визант. двора (De cerimoniis aulae byzantinae) как церк.-археол. источник. М., 1895;
- Дмитриевский А. А. Предполагаемые и действительные вновь открытые комментарии к «Обряднику» Константина Порфирогенета // ЧИОНЛ. 1903. Кн. 17. Вып. 2. Отд. 1. С. 69-73;
- он же. Историко-археологические и критические этюды к обряднику в издании Рейске (рукопись) // РНБ ОР. Ф. 253. Д. 141, 142, 155;
- Bury J. B. The Treatise De administrando imperio // BZ. 1906. Bd. 15. S. 517-577;
- idem. The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos // EHR. 1907. Vol. 22. N 86. P. 209-227; N 87. P. 417-489;
- Büttner-Wobst Th. Die Anlage der historischen Encyklopädie des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1906. Bd. 15. S. 88-120;
- Латышев В. В. К вопросу о лит. деятельности Константина Багрянородного // ВВ. 1916. Т. 22. С. 13-20;
- Täubler E. Zur Beurteilung der constantinischen Exzerpte // BZ. 1925. Bd. 25. S. 33-40;
- Grumel V. Une date historico-liturgique: Τῇ τρίτῃ τῆς Γαλιλαίας // EO. 1937. T. 36. P. 52-64;
- Alexander P. J. Secular Biography in Byzantium // Speculum. 1940. Vol. 15. P. 194-209;
- Dain A. L’encyclopédisme de Constantin Porphyrogénète // Lettres d’Humanité. 1953. Vol. 12. P. 64-81;
- Ostrogorsky G. Sur la date de la composition du Livre des thèmes et sur l’époque de la constitution des premiers thèmes d’Asie Mineure // Byz. 1953 [1954]. T. 23. P. 31-66;
- Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 551-552;
- Mango C., Ševčenko I. A New Manuscript of the «De Cerimoniis» // DOP. 1960. Vol. 14. P. 247-249;
- Grierson Ph., Jenkins R. J. H. The Date of Constantine VIÍs Coronation // Byz. 1962. T. 32. P. 131-138;
- Jenkins R. J. H. The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867-913 // DOP. 1965. Vol. 19. P. 89-112;
- Oikonomides N. Constantin VII Porphyrogénète et les thèmes de Céphalonie et de Longobardie // REB. 1965. T. 23. P. 118-123;
- Sorlin I. Le témoignage de Constantin VII Porphyrogénète sur l’état ethnique et politique de la Russie au début du Xe siècle // Cahiers du monde russe et soviétique. P., 1965. Vol. 6. N 2. P. 147-188;
- Ševčenko I. Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes // DOP. 1969/1970. Vol. 23/24. P. 185-228;
- он же. (Шевченко И. И.). Перечитывая Константина Багрянородного // ВВ. 1993. Т. 54 (79). С. 6-38;
- Moravcsik Gy. Byzantium and the Magyars. Bdpst., 1970;
- idem. Byzantinoturcica: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Leiden, 1983. Bd. 1. S. 356-390;
- Lemerle P. Le premier humanisme byzantin: Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. P., 1971. P. 268-292;
- Lounghis T. C. Sur la date du De Thematibus de Constantin Porphyrogénète // REB. 1973. T. 31. P. 299-305;
- Pingree D. The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus // DOP. 1973. Vol. 27. P. 217-231;
- Toynbee A. J. Constantine Porphyrogenitus and his World. L., 1973;
- Rochow J. Bemerkungen zu der Leipziger Handschrift des «Zeremonienbuches» des Konstantinos Porphyrogennetos und zu der Ausgabe von J. J. Reiske // Klio. 1976. Vol. 58. S. 193-197;
- Ripoche J.-P. Constantin VII Porphyrogénète et sa politique hongroise au milieu du Xe siècle // Südost-forschungen. Münch., 1977. Bd. 36. S. 1-12;
- Hunger. Literatur. Bd. 1. S. 360-367;
- Huxley G. L. The Scholarship of Constantine Porphyrogenitus // Proc. of the Royal Irish Academy. Sect. C: Archaeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature. 1980. Vol. 80. P. 29-40;
- Литаврин Г. Г. О датировке посольства кнг. Ольги в Константинополь // История СССР. 1981. № 5. С. 173-183;
- он же. Путешествие рус. кнг. Ольги в Константинополь: Проблема источников // ВВ. 1981. Т. 42 (67). С. 35-48;
- он же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // История, культура, этнография и фольклор слав. народов: IX Междунар. съезд славистов. М., 1983. С. 62-76;
- он же. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения кнг. Ольги // ДГСССР, 1985. М., 1986. С. 49-57;
- он же. Русско-визант. связи в сер. Х в. // ВИ. 1986. № 6. С. 41-52;
- он же. Константин Багрянородный о Болгарии и болгарах // Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред.: В. Велков. София, 1994. С. 30-37;
- он же. Византия, Болгария, Др. Русь (IX — нач. XII в.). СПб., 2000. С. 174-190;
- Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42(67). С. 171-183;
- Ahrweiler H. Sur la date du De Thematibus de Constantin VII Porphyrogénète // TM. 1981. T. 8. P. 1-5;
- Tartaglia L. Livelli stilistici in Costantino Porfirogenito // JÖB. 1982. Bd. 32. H. 3. S. 197-206;
- Семеновкер Б. А. Энциклопедии Константина Багрянородного: Библиогр. аппарат и проблемы атрибуции // ВВ. 1984. Т. 45(70). С. 242-246;
- Cameron A. The Construction of Court Ritual: The Byzantine Book of Ceremonies // Rituals of Royalty: Power and Ceremonial in Traditional Societies. Camb., 1987. P. 106-136;
- Schreiner P. Die Historikerhandschrift Vaticanus graecus 977: Ein Handexemplar zur Vorbereitung der Konstantinischen Exzerptenwerkes? // JÖB. 1987. Bd. 37. S. 1-29;
- Агрба И. Ш. Константин Багрянородный и нек-рые вопросы истории Абхазского царства (кон. VIII-X в.) // ВМУ: Ист. 1988. № 5. С. 79-85;
- Luzzi A. Note sulla recensione del Sinassario di Costantinopoli patrocinata da Costantino VII Porfirogenito // RSBN. N. S. 1989. T. 26. P. 139-186;
- idem. L'»ideologia costantiniana» nella liturgia dell’età di Costantino VII Porfirogenito // Ibid. 1991. T. 28. P. 113-124;
- Κωνσταντῖνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του. Β´ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση (Δελφοί, 22-26 Ιουλίου 1987) / Εκδ. Α. Μαρκόπουλος. Αθήνα, 1989;
- Beaud B. Le savoir et le monarque: Le «Traité sur les nations» de l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète // Annales: Économies, sociétés, civilisations. P., 1990. Vol. 45. N 3. P. 551-564;
- Odorico P. La cultura della συλλογή // BZ. 1990. Bd. 83. S. 1-21;
- Kazhdan A. P., Cutler A. Constantine VII Porphyrogennetos // ODB. 1991. P. 502-503;
- Lee D., Shepard J. A Double Life: Placing the Peri Presbeon // Bsl. 1991. Vol. 52. P. 15-39;
- Treadgold W. T. The Army in the Works of Constantine Porphyrogenitus // RSBN. N. S. 1992. T. 29. P. 77-162;
- Koder J. Gemüse in Byzanz: Die Versorgung Konstantinopels mit Frischgemüse im Lichte der Geoponika. W., 1993;
- Макарий. История РЦ. М., 1994п. Кн. 1;
- Pratsch Th. Untersuchungen zu De thematibus Kaiser Konstantins VII. Porphyrogennetos // Varia. Bonn, 1994. Bd. 5. S. 13-145. (Ποικίλα Βυζαντινά; 13);
- Sode C. Untersuchungen zu De administrando imperio Kaiser Konstantins VII Porphyrogennetos // Ibid. S. 147-260;
- Svoronos N. Les novelles des empereurs Macédoniens concernant la terre et les stratiotes / Édition posthume et index établis par P. Gounaridis. Athènes, 1994;
- Αντωνόπουλος Π. Τ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι. Αθήνα, 1996;
- Malamut E. Constantin VII et son image de l’Italie // Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jh. / Hrsg. E. Konstantinou. Köln, 1997. S. 269-292;
- Dagron G. L’organisation et déroulement des courses d’après le Livre des Cérémonies: Avec une Note sur l’hippodrome de Constantinople vu par les Arabs par S. Métivier // TM. 2000. Vol. 13. P. 3-200;
- Haldon J. F. Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies // Ibid. P. 201-352;
- Kresten O. «Staatsempfange» im Kaiserpalast von Konstantinopel um die Mitte des 10. Jahrhunderts: Beobachtungen zu Kapitel II, 15 des sogennanten «Zeremonienbuches». W., 2000;
- idem. Sprachiche und inhaltliche Beobachtungen zu Kapitel I 96 des sogennanten «Zeremonienbuches» // BZ. 2000. Bd. 93. S. 474-489;
- idem. Nochmals zu De cerimoniis I 96 // JÖB. 2005. Bd. 55. S. 87-98;
- Martin-Hisard B., Zuckerman C., Malamut É., Martin J.-M. Byzance et ses voisins: Études sur certains passages du Livre des Cérémonies II, 15 et 46-48 // TM. 2000. Vol. 13. P. 353-672;
- Назаренко А. В. Древняя Русь на междунар. путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, полит. связей IX-XII вв. М., 2001;
- Flusin B. L’empereur hagiographe: Remarques sur le rôle des premiers empereurs macédoniens dans le culte des saints // L’empereur hagiographe: Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine / Ed. P. Guran, B. Flusin. Bucur., 2001. P. 29-54;
- Featherstone M. J. Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis // BZ. 2002. Bd. 95. S. 457-479;
- idem. Olgás Visit to Constantinople in «De Cerimoniis» // REB. 2003. T. 61. P. 241-251;
- idem. Further Remarks on the «De Cerimoniis» // BZ. 2004. Bd. 97. S. 113-121;
- idem. The Chrysotriklinos as Seen through «De Cerimoniis» // Zwischen Polis, Provinz und Peripherie: Beitr. zur byzant. Geschichte und Kultur / Hrsg. L. M. Hoffmann. Wiesbaden, 2005. S. 845-852;
- idem. The Great Palace as Reflected in the De Cerimoniis // Visualisierungen von Herrschaft / Hrsg. F. A. Bauer. Istanbul, 2006. S. 47-61;
- idem. De Cerimoniis: The Revival of Antiquity in the Great Palace and the «Macedonian Renaissance» // The Byzantine Court: Source of Power and Culture. Istanbul, 2013. P. 139-144;
- Koutava-Delivoria B. La contribution de Constantin Porphyrogénète à la composition des Geoponica // Byz. 2002. T. 72. P. 365-380;
- Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод визант. свидетельств о Руси. М., 2004. С. 46-52, 222-236;
- Featherstone M., Grusková J., Kresten O. Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten Zeremonienbuches: 1. Prolegomena // BZ. 2005. Bd. 98. H. 2. S. 423-430;
- Арутюнова-Фиданян В. А. «Закавказское досье» Константина Багрянородного: Информация и информаторы // Визант. очерки. СПб., 2006. С. 5-18;
- Кузенков П. В. Реальная политика или великодержавная идеология?: Византийская дипломатия X в. по данным трактатов Константина Багрянородного // История: дар и долг: Юбил. сб. в честь А. В. Назаренко. М.; СПб., 2010. С. 73-99;
- Каждан А. П. История визант. лит-ры (850-1000 гг.). СПб., 2012. С. 144-157;
- Magdalino P. Knowledge in Authority and Authorised History: The Imperial Intellectual Programme of Leo VI and Constantine VII // Authority in Byzantium / Ed. P. Armstrong. Farnham, 2013. P. 187-209;
- Németh A. The Imperial Systematization of the Past in Constantinople: Constantine VII and His «Historical Excerpts» // Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance / Ed. J. König, G. Woolf. Camb., 2013. P. 232-258.
Dobschütz E., von. Christusbilder: Untersuch. zur christl. Legende. Lpz., 1899. S. 39-85*;
Использованные материалы
- С. Ю. Акишин, П. В. Кузенков, Л. В. Луховицкий «Константин VII Багрянородный» // Православная энциклопедия, т. 37, с. 47-56
- https://www.pravenc.ru/text/2057048.html
[1] Grumel. 1937. P. 63; Kazhdan, Cutler. 1991. P. 502
[2] Jenkins. 1965. P. 109; см. предполагаемые гороскопы Константина VII: Pingree. 1973
[3] Grierson, Jenkins. 1962
[4] Sym. Log. Chron. 134, 4. P. 295-296
[5] см., напр.: Theoph. Cont. P. 385
[6] см. письма Романа к Симеону: ΔΙΕΕΕ. 1883. Τ. 1. Σ. 657-666
[7] Sym. Log. Chron. 136, 49-50. P. 328; Theoph. Cont. VI 23. P. 414
[8] De cerem. 1829. Vol. 1. P. 686
[9] Const. Porphyr. De adm. imp. XIII 147-194
[10] De cerem. 1829. Vol. 1. P. 682, 690
[11] De cerem. 1830. Vol. 2. P. 727
[12] RegImp, N 647; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 46-53
[13] Δοχὴ τῆς ῎Ελγας τῆς ῾Ρωσένας — De cerem. II 15. 1829. P. 594-598; рус. пер.: Новиков. 2006. С. 343-346
[14] за раннюю дату: Gesner. 1756; Thunmann. 1774; Литаврин. 1981а, 1981б, 1983, 1986, 2000; Kresten. 2000; за позднюю: Muralt. 1855; Макарий (Булгаков). 1994; Назаренко. 2001; Featherstone. 2003
[15] ПСРЛ. Т. 1. 2001. Стб. 60-62; Т. 2. 2001. Стб. 49; Т. 3. М., 2000. С. 113 и т. д.
[16] Scyl. Hist. P. 240
[17] Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. // ДГВЕ, 1991. М, 1994. С. 61-80
[18] см.: Moravcsik. 1970; Ripoche. 1977
[19] Svoronos. 1994. P. 93-103; ср. 47-92
[20] Zonara. Epit. hist. XVI 21
[21] Шевченко. 1993. С. 10
[22] Darrouzès. 1960
[23] Lemerle. 1971. P. 269
[24] Darrouzès. 1960. P. 318
[25] Шевченко. 1993
С.Б. Сорочан
Константин Багрянородный. Об управлении империей
(название трактата дано современными историками. Он подготавливался под личным руководством правящего императора Константина VII в качестве этнографического справочника-обзора «О народах» (Periethnon), но не был закончен и за пределы придворных кругов, видимо, не вышел, поскольку в источниках ссылок на него нет. Собранные материалы, в том числе секретные, из императорской канцелярии, были переработаны около 949–952 гг.1255 в важный и конфиденциальный государственный документ, энциклопедическое поучение-руководство или завет по внутренней и внешней политике, дипломатии империи и адресовывались сыну и соправителю Константина VII, будущему императору Роману II, очевидно, к его 14-летию. Роман, родившийся в 938 г., рос слабым, жестокосердным и порочным, более склонным к чрезмерным удовольствиям, распутству, нежели к наукам, и его царственного отца беспокоило будущее единственного любимого наследника (последний, рано утратив здоровье, умрет на 25-м году жизни и на 4-м году своего самостоятельного правления). Поучительный и актуальный на тот момент ученый трактатоставление, скомпонованный из 53 разных по объему глав, должен был дать всестороннее представление (историческое, политическое, экономическое, социальное) прежде всего о народах, проживавших близь северных границ Империи, объяснить, чем они могут быть полезны, чем вредны, научить основам дипломатии – сложной науки «делания мира», а также рассказать, какие внутренние новшества появлялись со временем в государстве1256. Первые восемь глав посвящены преимущественно печенегам, 9 глава – росам, 10–12 – хазарам, 13 – «заповедям Константина Великого» по поводу домогательств варваров, 14–22 – арабам, 23–24 – древней Испании, 25 – представляет выписку из «Хронографии» Феофана о готах, вандалах и о владениях халифов, 26–28 – посвящены Италии, 29–36 – иллирийским славянам, 37 – Печенегии, 38–40 – венграм, которых Константин Багрянородный называет турками; 41 – моравам; 42 – описанию северного и восточного берега Черного моря; 43–44 – Армении, 45–46 – Ивирии (Грузии), 47–48 – Кипру, 49–50 – пелопонесским славянам, 51 – описанию организации царского флота, 52 – вновь Пелопоннесу и, наконец, 53 глава сообщает некоторые эпизоды истории античного Херсонеса в I в. до н.э. и в IV в. н.э., которые завершаются изложением особенностей положения города конца IX – первой половины X вв. Комментарии к тексту перевода переработаны).
1. О пачинакитах1257: насколько полезны они, находясь в мире с василевсом ромеев. Итак, послушай1258, сын, то, что как мне кажется, ты [обязан] знать; обрети разумение1259, дабы овладеть управлением. Ведь и всем прочим я говорю, что знание есть благо для подданных, в особенности же для тебя, обязанного печься о спасении всех и править и руководить мировым кораблем. А если я воспользовался ясной и общедоступной речью, как бы беспечно текущей обыденной прозой1260, для изложения предстоящего, не удивляйся нисколько, сын мой. Ведь не пример каллиграфии или аттикизирующего стиля, торжественного и возвышенного1261, я старался представить, а заботился более, чтобы через простое и обиходное повествование наставить тебя в том, о чем, по моему мнению, тебе не должно пребывать в неведении и что легко тебе может доставить тот разум и мудрость, которые обретаются в длительном опыте.
Я полагаю всегда весьма полезным для василевса ромеев желать мира с народом1262 пачинакитов, заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиария1263 с подобающими и подходящими дарами для народа и забирать оттуда омиров1264, и апокрисиария, которые прибудут в богохранимый этот град1265 вместе с исполнителем сего дела1266 и воспользуются царскими благодеяниями и милостями, во всем достойными правящего василевса.
Поскольку этот народ пачинакитов соседствует1267 с областью Херсона1268, то они, не будучи дружески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять1269 и самый Херсон, и так называемые климаты1270.
[На этом заканчивается глава 1, после которой следуют главы 2–5 о взаимоотношениях пачинакитов с росами, «турками» – венграми и булгарами, которых василевс ромеев должен был стараться держать в состоянии взаимной вражды].
6. О пачинакитах и херсонитах
[Знай], что и другой народ из тех же самых пачинакитов1271 находится рядом с областью Херсона1272. Они и торгуют с херсонитами1273, и исполняют поручения1274 как их, так и василевса и в Росии1275, и в Хазарии1276, и в Зихии1277, и во всех тамошних краях, получая, разумеется, от херсонитов заранее согласованную плату1278 за эту самую услугу1279, соответственно важности поручения1280 и своим трудам, как-то: влаттии1281, прандии1282, харерии1283, пояса1284, перец1285, алые кожи парфянские1286 и другие предметы, требуемые ими, как о том каждый херсонит сумеет договориться с лю- бым из пачинакитов при соглашении или уступит его настояниям. Ведь будучи свободными и как бы самостоятельными1287, эти самые пачинакиты никогда и никакой услуги не совершают без платы1288.
7. О василиках1289, посылаемых из Херсона в Пачинакию1290
Всякий раз, когда василик переправится в Херсон ради подобного поручения1291, он должен тотчас послать [вестника] в Пачинакию и потребовать1292 от них заложников1293 и охранников1294. Когда они прибудут, то заложников оставить под стражей1295 в крепости1296 Херсона, а самому с охранниками отправится в Пачинакию и исполнить порученное. Эти самые пачинакиты, будучи ненасытными и крайне жадными до редких у них вещей, бесстыдно требуют больших подарков: заложники домогаются одного для себя, а другого для своих жен, охранники – одного за свои труды, а другого за утомление их лошадей. Затем, когда василик вступит в их страну1297, они требуют прежде всего даров василевса и снова, когда ублажат своих людей, просят подарков для своих жен и своих родителей. Мало того, те, которые ради охраны возвращающегося к Херсону василика приходят с ним, просят у него, чтобы он вознаградил труд их самих и их лошадей.
8. О василисках, посылаемых из богохранимого града в Пачинакию с хеландиями1298 по рекам Дунай, Днепр и Днестр1299
[Знай], что и в стороне Булгарии1300 расположился народ пачинакитов по направлению к области Днепра, Днестра и других там имеющихся рек1301. Когда послан отсюда василик с хеландиями, то он может, не отправляясь в Херсон1302, кратчайшим путем и быстрее1303 найти здесь тех же пачинакитов, обнаружив которых, он оповещает их через своего человека, пребывая сам на хеландиях, имея с собой и охраняя на судах царские вещи. Пачинакиты сходятся к нему, и, когда они сойдутся, василик дает им своих людей в качестве заложников, но и сам получает от пачинкитов их эаложников и держит их в хеландиях1304. А затем он договаривается с пачинакитами. И, когда пачинакиты принесут василику клятвы по своим «заканам»1305, он вручает им царские дары и принимает «друзей»1306 из их числа, сколько хочет, а затем возвращается. Так-то нужно договариваться с ними, чтобы, когда у василевса явится потребность в них, они бы исполнили службу будь то против росов либо против булгар, либо же против турок, ибо они в состоянии воевать со всеми ими и, многократно нападая на них, стали ныне [им] страшными. Ясно это также из следующего. Когда клирик Гавриил как-то был послан к туркам1307 по повелению василевса и сказал им: «Василевс заявляет вам1308, чтобы вы отправились и прогнали пачинакитов с мест их, a вы расположились бы вместо них, так как прежде там располагались, – дабы находиться близ царственности моей и дабы, когда я того пожелаю, я отправлял послов и вскорости находил вас», то все архонты турок1309 воскликнули в один голос: «Сами мы не ввяжемся в войну с пачинакитами, так как не можем воевать с ними1310, – страна [их] велика, народ многочислен, дурное это отродье. He продолжай перед нами таких речей – не по нраву они нам»1311.
[Знай], что пачинакиты с наступлением весны переправляются с той стороны реки Днепра и всегда здесь проводят лето1312.
9. О росах, отправляющихся с моноксилами1313 из России в Константинополь
[Описание ежегодного, в июне месяце движения росов на судах вниз no Днепру с подробным перечислением речных порогов и способов преодоления каждого из них].
…Подступив же к пятому порогу, называемому по-росски Варуфорос, а по-славянски Вулнипрах1314, ибо он образует большую заводь1315, и переправив опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-россски Леанди, а по-славянски Веручи, что означает «Кипение воды»1316, и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-росски Струкун, а по-славянски Непрези, что переводится как «Малый порог»1317. Затем достигают так называемой переправы Крария1318, через которую переправляются херсониты, [идя] из Росии1319, и пачинакиты [на пути] к Херсону1320. Эта переправа имеет ширину ипподрома1321 в длину, с низа до того [места], где высовываются подводные скалы1322, – насколько пролетит стрела пустившего ее отсюда дотуда. Ben- fly чего к этому месту спускаются пачинакиты и воюют против росов1323…
[Рассказ о стоянке на о. Хортица – Св. Георгия, маршруте к устъю Днепра и Дуная и далее вдоль западного побережья Черного моря до области Месемвриип1324].
10. О Хазарии, как нужно и чьими силами воевать [с нею]
[Знай], что узы1325 способны воевать с хазарами, поскольку находятся с ними в соседстве, подобно тому, как и экскусиократор Алании1326.
[Знай], что девять климатов Хазарии1327 прилегают к Алании и может алан, если, конечно, хочет, грабить их отселе и причинять великий ущерб и бедствия хазарам, поскольку из этих девяти климатов являлись вся жизнь и изобилие Хазарии1328.
11. О крепости Херсон и крепости Боспор1329
[Знай], что экскусиократор Алании не может жить в мире с хазарами, но более предпочтительной считает дружбу василевса ромеев, и, когда хазары не желают хранить дружбу и мир в отношении василевса1330, он может сильно вредить им, и подстерегая на путях, и нападая на идущих без охраны при переходах к Саркелу, к климатам и к Херсону1331. Если этот экскусиократор постарается препятствовать хазарам1332, то длительным и глубоким миром пользуются и Херсон, и климаты, так как хазары, страшась нападения аланов, находят небезопасным поход с войском на Херсон и климаты и, не имея сил для войны одновременно против тех и других, будут принуждены хранить мир1333. 37. О народе пачинакитов1334 Да будет известно, что пачинакиты сначала имели место своего обитания на реке Атил, а также на реке Геих1335, будучи и соседями и хазар, и так называемых узов1336. Однако пятьдесят лет назад1337 упомянутые узы, вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной страны1338, и владеют ею вплоть до нынешних времен так называемые узы1339. Пачинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения. Достигнув земли, которой они обладают и ныне, обнаружив на ней турок1340, победив их в войне и вытеснив, они изгнали их, поселились здесь и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего дня уже в течение пятидесяти пяти лет1341.
Да будет ведомо, что вся Пачинакия делится на восемь фем1342, имея столько же великих архонтов. А фемы таковы1343: название первой фемы Иртим, второй – Цур, третьей – Гила, четвертой – Кулпеи, пятой – Харавои, шестой – Талмат, седьмой – Хопон, восьмой – Цопон…
[Следует перечень имен первых «архонтов фем» пятидесятипетней давности и излагается принцип не прямого наследования верховной власти у пачинакитов].
…Восемь фем разделяются на сорок частей, и они имеют архонтов более низкого разряда1344.
Должно знать, что четыре рода пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукалпеи, фема Вороталмат и фема Вулацопон, расположены по ту сторону реки Днепра по направлению к краям [соответственно] более восточным и северным1345, напротив Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих климатов1346. Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией, фема Нижней Гилы соседит с Туркией1347, фема Харавои соседит с Росией, а фема Иавдиер- тим соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами1348, дервленинами1349, лензанинами1350 и прочими славянами. Пачинакия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути1351, от Алании – на шесть дней, от Мордии1352 – на десять дней, от Росии – на один день, от Туркии – на четыре дня, от Булгарии – на полдня1353, к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе1354.
Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так называемыми узами и поныне находятся среди них, имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать, кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих): ведь одеяние свое они укоротили до колен, а рукава обрезали до самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они отрезаны от своих и от соплеменников1355.
Должно знать, что по сю сторону реки Днестра, в краю, обращенном к Булгарии, у переправ через эту реку, имеются пустые крепости: первая крепость названа пачинакитами Аспрон, так как ее камни кажутся совсем белыми1356; вторая крепость Тунгаты1357, третья крепость Кракнакаты1358, четвертая крепость Салмакаты1359, пятая крепость Сакакаты1360, шестая крепость Гиэукаты1361. Посреди самих строений древних крепостей обнаруживаются некоторые признаки церквей и кресты, высеченные в песчанике, поэтому кое-кто сохраняет предание, что ромеи некогда имели там поселение.
Должно знать, что пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар1362.
42. Землеописание1363 от Фессалоники1364 до реки Дунай и крепости Белеград1365, до Туркии1366 и Пачинакии1367, до хазарской крепости Саркел1368, до Росии1369 и до Некропил1370, находящихся на море Понт, близ реки Днепр, до Херсона вместе с Боспором, в которых находятся крепости климатов1371; затем – до озера Меотида1372, называемого из-за его величины также морем, вплоть до крепости по имени аматарха1373, а к сему – и до Зихии1374, Папагии1375, Касахии1376, Алании1377 и Авасгии1378 – вплоть до крепости Сотириуполь1379.
Должно знать, что от Фессалоники до реки Дунай, на котором находится крепость по названию Белеград, путь занимает восемь дней, если путешествовать не в спешке, а с отдыхом1380. Турки живут по ту сторону1381 реки Дунай, в земле Моравии1382, а также по сю сторону, между Дунаем и рекой Савой. От понизовья реки Дунай, против Дистры1383, начинается Пачинакия1384. Их места расселения простираются вплоть до Саркела, крепости хазар, в которой стоят триста таксеотов1385, сменяемых ежегодно1386. «Саркел» же означает у них «Белый дом»1387; он построен спафарокандидатом1388 Петроной, по прозванию Каматир, так как хазары просили1389 василевса Феофила построить1390 им эту крепость. Ибо известно, что хаган и пех1391 Хазарии, отправив послов к этому василевсу Феофилу1392, просили1393 воздвигнуть1394 для них крепость Саркел. Василевс, склоняясь к их просьбе1395, послал им ранее названного спафаро- кандидата Петрону с хеландиями из царских судов1396 и хеландии катепана Пафлагонии1397. Итак, сей Петрона, достигнув Херсона, оставил хелан- дии в Херсоне; посадив людей на транспортные корабли1398, он отправился к месту на реке Танаис1399, в котором должен был строить крепость. Поскольку же на месте не было подходящих для строительства крепости камней, соорудив печи1400 и обжегши в них кирпич1401, он сделал из них здание крепости, изготовив известь1402 из мелких речных ракушек1403. Затем этот вышеназванный спафарокандидат Петрона, прибыв к василевсу после постройки1404 крепости Саркел, сказал ему: Если ты хочешь всецело и самовластно1405 повелевать крепостью Херсоном и местностями в нем1406 и не упустить их из своих рук1407, избери собственного стратига1408 и не доверяй их протевонам и архонтам1409. Ведь до василевса Феофила не бывало стратига, посылаемого [туда] из этих мест1410, но управителем всего являлся1411 так называемый протевон с так называемыми отцами города1412. Итак, василевс Феофил, размышляя при сем, того или этого послать в качестве стратига1413, решил, наконец, послать вышеозначенного спафарокандидата Петрону как приобретшего знание местности1414 и понимания дел отнюдь не лишенного1415, которого он и избрал стратигом1416, почтив чином протоспафария1417, и отправил в Херсон, повелев1418 тогдашнему протевону и всем [прочим] повиноваться ему1419. С той поры до сего дня стало правилом избирать для Херсона стратигов из здешних1420. Так совершилось строительство1421 крепости Саркел. От реки Дунай до вышеназванной крепости Саркел 60 дней пути1422. В пространстве этой земли имеются многочисленные реки, величайшие из них две – Днестр и Днепр. Имеются и другие реки, так называемая Сингул, Ивил, Алматы1423, Куфис1424, Богу1425 и многие иные. В верховьях реки Днепр живут росы1426; отплывая по этой реке, они прибывают к ромеям; Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона1427, Сарата, Бурата1428 и тридцати краев1429. Расстояние по побережью моря от реки Дунай до реки Днестр1430 120 миль1431. От реки же Днестр до реки Днепр 80 миль, так называемый «Золотой берег»1432. От устья реки Днепр идут Адары1433. Там есть большой залив, называемый Некропилы, по которому совершенно невозможно пройти. От реки Днепр до Херсона 300 миль1434, а в промежутке – болота и бухты1435, в которых херсониты добывают соль1436. От Херсона до Боспора расположены крепости климатов1437, а расстояние – 300 миль1438. За Боспором находится устье Меотидского озера1439, которое из-за [его] величины все именуют также морем. В это Меотидское море1440 впадает много больших рек1441; к северной стороне от него – река Днепр, от которой росы продвигаются и в Черную Булгарию1442, и в Хазарию, и в Мордию1443. Самый же залив Меотиды тянется в направлении к Некропилам, находящимся близ реки Днепр, мили на четыре, и сливается [с ними] там, где древние, прорыв канал1444, проходили в море, отгородив [таким образом] находящуюся внутри всю землю Херсона и климатов и землю Боспора1445, простирающуюся миль на тысячу или несколько больше1446. Из-за множества истекших лет этот канал засыпался и превратился в густой лес, и имеются через него лишь два пути1447, по которым пачинакиты проходят к Херсону, Боспору и климатам1448. С восточной стороны Меотидского озера впадает много всяких рек: река Танаис, текущая от крепости Саркел, Харакул1449, в которой ловится верзитик1450; есть и иные реки, Вал и Вурлик, Хадир1451 и прочие многочисленные реки. Из Меотидского озера выходит пролив по названию Вурлик1452 и течет к морю Понт; на проливе стоит Боспор1453, а против Боспора находится так называемая крепость Таматарха1454. Ширина этой переправы через пролив 18 миль1455. На середине этих 18 миль имеется крупный низменный островок по имени Атех1456. За Таматархой, в 18 или 20 милях, есть река по названию Укрух1457, разделяющая Зихию и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис, на которой находится крепость, одноименная реке1458, простирается страна Зихия. Ее протяженность 300 миль. Выше1459 Зихии лежит страна, именуемая Папагия, выше страны Папагии – страна по названию Касахия, выше Касахии находятся Кавказские горы1460, а выше этих гор – страна Алания. Вдоль побережья Зихии [в море] имеются островки, один крупный островок и три [малых], ближе их к берегу есть и другие, используемые зихами под пастбища и застроенные ими, – это Турганирх, Царваганин и другой островок1461. В бухте Спатала находится еще один островок, а в Птелеях – другой, на котором во время набегов аланов зихи находят убежище1462. Побережье от пределов Зихии, то есть от реки Никопсиса, составляет страну Авасгию – вплоть до крепости Сотириуполя. Она простирается на 300 миль1463.
53. Повествование о крепости Херсон1464
[06 источниках нефти в Зихии, Папагии и на территории Армении].
Да будет известно, что, если жители крепости Херсон когда-либо восстанут1465 или замыслят совершить противное царским повелениям1466, должно тогда, сколько ни найдется херсонских кораблей в столице1467 конфисковать вместе с их содержимым1468, а моряков и пассажиров-херсонитов1469 связать1470 и эаключить в работные дома1471. Затем же должны быть посланы три василика1472: один на побережье фемы Армениаки1473, другой – на побережье фемы Пафлагония1474, третий – на побережье фемы Вукелларии1475, чтобы захватить все суда херсонские1476, конфисковать и груз, и корабли1477, а людей связать1478 и запереть в государственные тюрьмы1479 и потом донести об этих делах, как их можно устроить1480. Кроме того нужно, чтобы эти василики1481 препятствовали1482 пафлагонским и вукелларийским кораблям и береговым суденышкам Понта1483 переплывать через море в Херсон1484 с хлебом или вином1485, или с каким-либо иным продуктом1486, или с товаром1487. Затем также и стратиг должен приняться за дело1488 и отменить десять литр1489, выдаваемые1490 крепости Херсон из казны1491, и две [литры] пакта1492, а затем стратиг уйдет из Херсона1493, отправится в другую крепость и обоснуется там1494.
[Знай], что если херсониты не приезжают в Романию1495 и не продают шкуры и воск, которые они покупают у пачинакитов1496, то не могут существовать1497. [Знай], что если херсониты не доставляют зерно из Аминса, Пафлагонии, Вукеллариев и со склонов Армениаков, то не могут существовать1498.
Кембриджский аноним – «документ Шехтера» (представляет собой уцелевший фрагмент бумажной книги XI в., написанной крупным еврейским квадратным письмом. Листы текста были приобретены Кембриджской университетской библиотекой в числе прочих рукописей, привезенных в 1896 г. из генизы (хранилища) средневековой синагоги Фустат-Миср в Старом Каире и впервые опубликованы в 1912 г. с переводом на английский язык доктором Соломоном Шехтером (отсюда название «текст Шехтера»)1499. Уже на следующий год появился перевод на русский язык, изданный известным семитологом Π. К. Коковцовым в «Журнале Министерства Народного Просвещения»1500. Рукопись, явно не полная, содержит донесение о хазарских евреях и хазарском царстве неизвестному лицу от неизвестного хазарского еврея, подчиненного некоему «своему господину» (adoni), жившему во время, близкое к правлению некоего византийского императора («в дни злодея Романа»). Весьма вероятно, что под последним подразумевается Роман Лакапин (ок. 870–948, кесарь и василевс – 919–944), а под «господином» — хазарский царь Иосиф, правивший в течение примерно второй трети X в.1501. Исследователи считают документ подлинным источником и относят составление приблизительно к середине X в., поскольку не исключена его увязка с дипломатической перепиской сановника Кордовского халифа Абдур-Рахмана III (911/912–961), покровителя евреев Хасдаи ибн Шапрута (Шапперута), придворная деятельность которого относится ко второй трети X в.1502. Это анонимное письмо дипломатического характера могло быть составлено неким хазарином-иудеем в Константинополе для Исаака бен-Натана, по- сланца Хасдаи ибн Шапрута, в то время, когда он в течение шести месяцев 949–950 г. находился в столице Византии, безуспешно ища связи с царем Хазарии1503. Несколько резюмирующий и слишком краткий в некоторых местах характер рассказа позволяет предположить, что текст рукописи являлся сокращенной компиляцией, «досье» каких-либо более полных сочинений, возможно, арабских авторов. Отрывок начинается с сообщения о появлении преследуемых персами евреев-беженцев среди хазар, говорит о совместной жизни евреев с казарами и последующем возвышении одного из них в сан главного хазарского военачальника, переходит затем к повествованию о принятии хазарами иудейской веры, – причем в связи с этим касается вопроса о хаганах и царской власти у хазар, – рассказывает о войнах хазар с Византией, печенегами, аланами, русами и обрывается на географических данных о стране хазар. Особого внимания заслуживает блок сведений о гонениях в Византии на иудеев, о враждебных, подстрекательских действиях византийских императоров в отношении хазар и о набеге хазарского военачальника Песаха на византийские города и поселения в Крыму, в том числе на Херсон, происшедшем, скорее всего, в правление Романа I Лакапина1504. Перевод Π. К. Коковцова).
…Армении1505. И бежали от них наши предки1506 […], потому что не могли выносить ига идолопоклонников1507. И приняли их к себе […] [князья казарские1508], потому что люди казарские1509 жили сперва без закона1510. И остались […] без закона и без письма1511. И они породнились с жителями (той) страны и [смешались с язычниками и научились делам их1512. И они всегда выходили вместе с ними на [войну] и стали одним (с ними) народом. Только завета обрезания они держались1513, и [некоторые из них] соблюдали субботу1514. И не было царя в стране казар1515, а того, кто одерживал победы на войне, они ставили над собой военачальником1516 (и продолжалось это) до того самого дня, как евреи вышли с ними по обыкновению на войну, и один еврей1517 высказал в тот же день необычайную силу мечом и обратил в бегство врагов, нападавших на казар. И поставили его люди хазарские, согласно исконному своему обычаю, над собою военачальником1518. И оставались они в таком положении долгое время, пока не смиловался Господь и не вызвал в сердце (того) военачальника желания принести покаяние1519. И склонила его (на это) жена его, именем Серах1520, и она научила его сделать (себе) полезное1521. Он и сам, будучи (уже) подвергнут обрезанию, был согласен (на это)1522, да и отец молодой женщины, человек праведный в том поколении1523, наставил его к пути жизни1524. Когда же услышали об этом цари македонские и арабские1525, то очень разгневались и послали к казарским князьям послов со словами хулы на Израиль: «Зачем вам переходить в веру иудеев, которые находятся в рабстве у всех народов?» И они говорили слова, которых мы не в состоянии передать и склонили сердце князей ко злу1526. И сказал (тогда) главный князь, еврей: «Зачем нам много говорить? Пусть придет несколько мудрецов израильских, греческих и арабских и расскажут перед нами и вами каждый о деянии бога […] конец его»1527. И они так сделали и послали […] царям арабов1528; мудрецы же израильские добровольно […к] князьям казарским1529. И начали греки свидетельствовать […]1530, и стали иудеи и арабы опровергать их1531. А затем начали говорить [арабы], и опровергали их иудеи и греки. И после того начали говорить [мудрецы изра]ильские начиная от шести дней Творения до того дня, когда израильтяне поднялись [из] Египта, и до прихода их в землю населенную1532. Засвидетельствовали греки и арабы истинность (сказанного) и признали, что они говорят правду. Но произошел также спор между ними. И сказали князья казарские1533. «Вот есть пещера в долине Тизул1534. Достаньте нам книги, которые там находятся, и истолкуйте их перед нами». И они так сделали и вошли внутрь пещеры, и вот там (оказались) книги закона Моисеева1535, и истолковали их мудрецы израильские согласно первым речам, которые они высказали. И покаялись израильтяне вместе с людьми казарскими полным раскаянием1536. И стали приходить иудеи из Багдада и Хорасана1537 и земли греческой1538 и поддержали людей страны, и те укрепились в завете отца множества1539. И поставили люди страны одного из мудрецов судьей над собой1540. И называют они его на казарском языке каганом1541; поэтому называются судьи, которые были после него, до настоящего времени каганами1542. А главного князя казарского они переименовали в Савриила1543 и воцарили царем над собою 1544. В нашей стране говорят, что предки наши происходят из колена Симеонова, но мы не знаем, верно ли это1545. И заключили царь союз с нашим соседом, царем алан, так как царство алан сильнее и крепче1546 всех народов, которые (живут) вокруг нас, (и) так как подумали мудрецы: «Чтобы не поднялись народы войною против нас и не присоединился также и он к нашим врагам»1547. Поэтому [он заключил с ним союз, чтобы оказать помощь] в беде друг другу. И был ужас [Божий на народах, которые] кругом нас1548, так что они не приходили (войной) на казарское царство. [Но во дни царя Вениамина]1549 поднялись все народы на [казар] и стеснили их [по совету] царя македонского1550. И пришли воевать царь Асии1551 и [турок]1552 […]1553 и Пайнила1554 и Македона; только царь алан был подмогою [для казар, так как] часть их (тоже) соблюдала иудейский закон1555. Эти цари [все] воевали против страны казар, а аланский царь пошел на их землю и нанес им [поражение], от которого нет поправления1556, и ниспроверг их Господь перед царем Вениамином. И также во дни царя Аарона1557 воевал царь аланский против казар, потому что подстрекнул его греческий царь1558, но Аарон нанял против него царя турок, так как тот был [с ним дружен]1559, и низвергся царь аланский перед Аароном1560, и тот взял его живым в плен. И оказал ему [царь большой] почет и взял дочь его в жены своему сыну, Иосифу. Тогда [обязался] ему аланский царь в верности, и отпустил его царь Аарон [в свою землю]1561. И с того дня напал страх перед казарами на народы, которые (живут) кругом них. И во дни также царя Иосифа, моего господина1562 […ему подмогой]1563, когда было гонение1564 (на иудеев) во дни злодея Романа1565; [и когда стало известно это] дел[о] моему господину, он растоптал1566 множество необрезанных1567. А Роман [злодей послал] также большие дары Хальгу, царю Руси1568, и подстрекнул его на его (собственную) беду. И пришел он ночью к городу1569 Самбараю1570 и взял его воровским способом, потому что не было там начальника1571, раб-Хашмоная1572. И стало это известно Булшици1573, то есть досточтимому1574 Песаху1575, и пошел он в гневе на города Романа1576 и избил и мужчин и женщин. И он взял три города, не считая большого множества пригородов1577. И оттуда он nomen на (город) Шуршун1578 [.], и воевал против него. […] и они вышли из земли наподобие червей1579 […] Израиля, и умерло из них 90 человек1580. […]1581 и он заставил их платить дань1582. И он спас […]1583руки русских и [поразил]1584 всех оказавшихся из них (там) [и умертвил их ме]чом. И оттуда он пошел войной на Хальгу и воевал[…]1585, и Бог смирил его перед Песахом1586. И нашел он […]1587добычу, которую тот захватил из Самбарая1588. И говорит он1589: «Роман подбил меня на это». И сказал ему Песах: «Если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты воевал со мной, и я отступлюсь от тебя. А иначе я здесь умру или буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя». И пошел тот против воли и воевал против Константинополя1590 на море четыре месяца. И пали там богатыри1591 его, потому что македоняне осилили (его) огнем1592. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, а пошел морем в Персию1593 и пал там он и весь стан его1594. Тогда стали русские подчинены власти казар1595. Вот сообщаю я моему господину: имя нашей страны, как мы нашли (это) в книгах1596, Арканус1597, а имя столицы (нашего царства) – Казар1598, имя же реки, которая протекает внутри ее, Итиль1599. Она направо от моря, идущего от вашей страны, по которому перебрались твои посланцы в Константинополь1600, а оно тянется, как я думаю, от великого моря1601. Город наш1602 отстоит от этого моря на 2160 рисов1603, а между нашей страной и Константинополем по морю девять дней (пути) и сухим путем – 28 дней1604. Земля, подвластная моему господину, простирается на 50 дней (пути)1605. Вот какие народы воюют с нами1606: Асия1607, Баб-ал-Абваб1608, Зибус1609, турки1610, Лузания1611…
(Κοκοвцοв Π. К. Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях в X веке. – СПб., 1913 (отд. отт. из ЖМНП). – С. 7–16 (154–163)
Еврейско-хазарская переписка 50-х гг. X в. (представлена письмом андалузского еврея, раввина Хасдаи ибн Шапрута к хазарскому царю Иосифу и ответным посланием царя, в котором он осветил некоторые важнейшие события в истории хазар и указал границы их владений, в том числе на территории Крыма. Высокообразованный, талантливый Хасдаи, сын Исаака, сына Эздры, или, как гласило его арабское имя, Абу-Юсуф Хасдаи ибн Шапрут (ок. 905–975), происходил из зажиточной, знатной кордовской семьи, владел литературными еврейским и арабским языками, знал латынь, медицину, поначалу занимал должность переводчика и дипломатического посредника, сопровождал халифских посланников при христианских дворах, а со временем стал главой государственного налогового и пошлинного ведомства, своеобразным министром финансов и иностранных дел, обладал прерогативой писать по-еврейски письма официального характера, вел прием чужеземных послов от имени Омейадских халифов в Испании, просвещенных Абд ал-Рахмана III (911/912–961) и его сына Ал-Хакима II (961–976), которым истово служил. В еврейской общине столицы халифата он пользовался высшей судебной и политической властью, живо интересовался историей еврейского народа, привлек в Кордову даровитых еврейских ученых и поэтов, употреблял свои высокое положение и богатства в пользу единоверцев, выступал защитником, покровителем близких и далеких общин, способствовал расцвету еврейской культуры в арабской Андалузии. У путешественников, а также послов из Византии и других государств Европы и Азии Ибн Шапрут собирал сведения о положении евреев в их землях и таким образом узнал о доселе неведомом ему государстве Хазария с царем-иудеем во главе. Это известие и подвигло высокого кордовского сановника снабдить посланников, уже не первых, письмом к хазарскому хагану Иосифу с настойчивой просьбой обстоятельно, подробно ответить на более чем три десятка вопросов о происхождении хазар, их государстве, его размерах, политическом строе, экономике, войске, доходах и появлении евреев и иудаизма. Время написания документа определяется двумя обстоятельствами: в нем упоминаются византийские посольства в Кордову, имевшие место в течение 945–951 гг., после чего была предпринята первая настоятельная попытка переправить послание хазарскому царю через Константинополь; о халифе Абд ал-Рахмане говорится как о живущем и царствующем, и значит, данное письмо не могло быть написано после 16 октября 961 г., времени его смерти1612. Ответное послание царя Иосифа могло быть получено уже в начале правления ал-Хакима. Известны пространная и краткая редакции этого письма, которые сохранились в рукописных копиях XIII и XVI вв. Документы неоднократно переиздавались вместе с переводами1613).
* * *
1255
Эти даты указаны в тексте сочинения (Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989. – Гл.27. 54, с.104–105; гл.29. 234–235, с.122–123; гл. 45. 39–40, с.194–195). Самая поздняя из них – 10 индикт 6460 г. от сотворения мира – 1 сентября 951–31 августа 952 г. ближе других стоит ко времени окончания работы над трактатом, поэтому нет оснований помещать составление труда в широких пределах между 948 и 959 гг. (Lemerle P. Le premier humanisme byzantin: Notes et remarques sur enseignement et culture a Byzance des origines au Xe siecle. – Paris, 1971. – P. 277, n.36; ср.: Toynbee A. Constantine Porphyrogenitus and His World. – London, 1973. – P. 576). Сочинение известно в единственном списке, изготовленном по заказу кесаря Иоанна Дуки в 1059–1081 гг.
1256
Текст редактируемых материалов, подготовленных учеными советниками, Константин Багрянородный обычно предварял замечанием – «Знай» (греч. isteon).
1257
Речь идет о печенегах, отношения с которыми к середине X в. представляли важнейшую внешнеполитическую проблему Византийской империи. Не случайно свой трактат Константин Багрянородный начал именно с тех, с кем связывался целый комплекс международных отношений. Видя в печенегах главную пружину своих внешнеполитических акций, Византия стремилась влиять с их помощью на ход политических дел в Юго-Восточной и Восточной Европе. В Северное Причерноморье тюркские племена печенегов перекочевали из Средней Азии, с территории между Аральским и Каспийским морями, в самом конце IX в., как полагают, в результате экологических сдвигов (изменения русла Амударьи) и под натиском других тюркоязычных народов, в частности гузов (узов), двинувшихся в конце IX в. из Приаралья и бассейна Сырдарьи в Восточную Европу (Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XIII вв. – К., 1884. – С. 18 слл.; Волин С. К истории древнего Хорезма // ВДИ. – 1941. –№ 1. – С. 194; GyorffyGy. Sur la question de l’etablissement des Petchenegues en Europe // Acta orientalia Academia Scientiarum Hungarica. – 1972. – T.25. – P. 283–292; Божипов И. България и печенезите (896–1018) // Исторически преглед. – 1973. – № 2 – С. 37 слл.; Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К., 1999. – С. 53–54). Стремясь ослабить давление со стороны печенегов, хазары заключили союз с узами (гузами, торками). Разбитые узами, печенеги двинулись в Хазарию. Овладев причерноморскими степями, они стали расширять зону своей активности. Об их появлении в Причерноморье источники впервые сообщают около 889 г. (Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon / Rec. F. Kurze. – Hannoverae, 1890. – P. 131–132). В 90-е гг. IX в. печенеги вытеснили из Причерноморья венгров (Feher G. Zur Geschichte der Steppenvolker S. 257 f.; Gyorffy Gy. Op. cit. – P. 283–292) и на рубеже IX–X вв. распространились на Нижнее Подунавье (Расовский Д. А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. – 1933. – T. 6. – C. 1–66; Зпатарски В. История на Българската държава през средните векове. – София, 1971. – Т. 1. Ч. 2. – С. 373 слл.). Зона распространения печенегов, описываемая Константином Багрянородным в начальных главах, сложилась, скорее всего, к началу X в. Территория «Печенегии» (ср.: гл. 42), согласно традиционному мнению, охватывала в конце IX – начале X вв. огромную территорию – от Дона до левого берега Дуная. Уже в конце IX в. печенеги во многом определяли политическую ситуацию на Балканах и в Подунавье. Так, победа болгарского царя Симеона в 896 г. над Византией при Булгарофигоне и последующий за этим мир, невыгодный для византийцев, во многом связаны с привлечением Симеоном на его сторону печенежских вождей, которые нанесли поражение венграм – на тот момент еще союзникам Империи. Сама Византия крупных столкновений с печенегами не знала вплоть до XI в., хотя печенеги привлекались то на сторону ромеев против болгар или русов, то на сторону Руси против Византии, Хазарии и Болгарии (Мавродина Р. М. Киевская Русь и кочевники: (печенеги, торки, половцы). Историографический очерк. – Л., 1983; Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – С. 55–79)
1258
Ср.: Притчи, 1. 8. Этот пассаж принадлежит скорее к Предисловию, чем к главе 1, как это сделано в издании, сохраняющем композицию рукописи.
1260
Константин утверждает принцип ясности и простоты стиля изложения (см: Moravcsik Gy. Та syngrammata Konstantinou tou Porphyrogennetou apo glossikes apopseos // Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini. – Roma, 1939. – T.l. – Sel. 518–520). По всей видимости, он сохранил язык, на котором составлялись заметки, поступавшие в ведомство логофета дрома (Дюно Ж.-Ф., Ариньон Ж.-П. Понятие «граница» у Прокопия Кесарийского и Константина Багрянородного // ВВ. – 1982. – Т. 43. – С. 72).
1261
Античная словесность служила непреходящим образцом для византийского искусства речи и письма (см.: Hunger Н. On the Imitation (Mimesis) of Antiquity in Byzantine Litterature // DOP. – 1969 / 1970. – Т.23 / 24. – P. 17–38).
1262
В действительности, политическая теория, которой руководствовались византийцы в отношениях с ethne – инородцами и иноверцами была не столь пацифистской и предусматривала сдерживание одних этнических групп угрозой со стороны других (см.: Ostrogorsky G. Die byzantinische Staatenhierarchie // Seminarium Kondakovianum. – 1936. – T.8. – S. 49–53).
1263
Здесь: посланник (Treitinger O. Apokrisiarios // Reallexicon für Antike und Christentum. – Stuttgart, 1942. – Bd.l. – S. 501–504). B ранневизантийских источниках употреблялся преимущественно в значении «посланник», «посол», «вестник», реже – «секретарь». С IX в. апокрисиарием называли иногда и просто посредника (cm.: Sophocles E. А. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. – New York, 1957. – Vol. 1. – P. 222). Функции апокрисиария зависели и от ранга того, кого он представлял, и от ранга того, к кому он был послан. Различались светские и церковные апокрисиарии. Среди первых можно выделить царских и воинских посланников, среди вторых – патриарших, епископских, монастырских и т.п. В обязанности апокрисиариев входили и функции наблюдателей (Коеѵ Т. Die Institution der apokrisiarioi // Etudes balkaniques. – Sofia, 1978. – № 4. – P. 57–61).
1264
…omerous – заложников. Этот заимствованный из канцелярского латинского языка термин (лат. obses) употреблялся для обозначения заложников в византийских памятниках и до Константина Багрянородного (см.: Du Cange C. Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. – Paris, 1943. – Vol. 2. – P. 1073; Шестаков C. П. Очерки по истории Херсонеса в VI–X вв. по Р. Хр. // Памятники христианского Херсонеса. – М., 1908. – С. 72). В дальнейшем в этом значении в источнике встречается греческий термин opsidas.
1265
Один из наиболее распространенных эпитетов, применявшихся ромеями по отношению к Константинополю (подр. см.: Fenster E. Laudes Constantinopolitanae. – München, 1968).
1266
По Г. Моравчику, это куратор апокрисиария (cp.: Vogt A. Basile Ier, empereur de Byzance et la civilisation byzantine a la fin du IXe siecle. – Paris, 1908. – P. 166; Emerceau A. Apocrisiaires et apocrisiarat. Notes de l’apocrisiarat, ses varietes a travers l’histoire // Echos d’Orient. – 1914. – Vol. 17. – P. 289–297, 542–548; Brehier L. Les institutions de l’Empire byzantin. – Paris, 1949. – P. 302).
1267
…coceдcmвyem – geitniazei. B пер. X.– Ф. Байера: «граничит» (Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. – Екатеринбург, 2001. – С. 105).
1268
В греческом тексте – to merei tes Chersonos. «Область» («регион» или «округ») – meros – здесь, очевидно, соответствует техническому термину фема. Созданная около 840 г. под названием Климата, она к 60-м гг. IX в. стала именоваться по названию ее столицы – Херсон. В первой половине X в. этот имперский центр играл видную роль в системе византийско-печенежско-хазарско-русских отношений. Часть печенегов, вклинившись в земли между Хазарией и подвластными Империи крымскими городами, прервала их связи. Попытки хазар вернуть прежние позиции потерпели неудачу: поход бул-ш-ци Песаха, несмотря на его победоносность, не смог поправить положение (см.: Кембриджский Аноним; ср.: Плетнева C. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях // МИА. – 1958. – № 62. – С. 213–226). С этой ситуацией связано сообщение Константина о «близости» печенегов к Херсону и об их непосредственном соседстве (plesiesteron) с Боспором (см. ниже гл.37). По-видимому, основная масса печенегов располагалась к северу от Крымского полуострова, в междуречье Дона и Днепра (ср. ниже гл.6–8) (Божилов И. България и печенезите (896–1018) // Исторически преглед. – 1973. – № 2. – С. 40).
1269
В греческом тексте – leizesthai («уводить добычу», «грабить»).
1270
…так называемые климаты – ta legomena klimata (слово среднего рода), то есть области, на которые делилась территория Горного и приморского Крыма между Херсоном и Боспором (ср. выше «О фемах»). Очевидно, на этом основании фема первоначально получила название Климата, под которым она фигурировала в Тактиконе 842– 843 гг. (Oikonomides N. Les listes de preseance byzantines des IXe et Xe siecles. – Paris, 1972. – P. 117). B пер. Х.-Ф. Байера это место выглядит следующим образом: «…и, если у них нет дружеских отношений с нами, они могут нападать и грабить Херсон и так на- зываемые Климаты» (Байер Х.-Ф. История крымских готов… – С. 105).
1271
…другой народ из тех же самых пачинакитов – kai eteros laos ton toiouton Patzinakiton.
1272
…находится рядом с областью Херсона – to merei tes Chersonos parakeintai («находится возле области Херсона»). В том же смысле о пределах Пачинакии писал Константин и в главе 37: «…к Херсону приближена, к Боспору еще соседней» (eis Chersona men estin eggista, eis de ten Bosporon plesiesteron).
1273
…торгуют c херсонитами – pragmateuontai meta ton Chersoniton. O торговле c Херсоном cm. ниже гл.53.
1274
…исполняют поручения – poiousi tas douleias («исполняют служения»). В пер. Х.-Ф. Байера: «исполняют службы» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 361).
1275
Термин Ros у Константина обозначает народ или его часть; производные Rosia – принадлежащую росам землю, a rosisti (буквально «по-росски») – язык, на котором они говорят. В связи с этим в науке до сих пор ведутся споры о полявлении термина Ros, о его происхождении и содержании. Первое упоминания «росов» в византийских источниках относится к IX в. Считается, что это сообщение о нашествии на приморский город Амастриду на севере Малой Азии «варваров росов – народа, как все знают, дикого и жестокого» (barbaron ton Ros, ethnous, os pantes isasin, omotatou kai apenous) в Житии Георгия Амастридского, однако надо учесть, что памятник мог быть составлен не до 842 г., как полагал И. Шевченко, а к концу X в. (Труды В. Г. Васильевского. – СПб., 1915. – Т. 3. – С. 64; Sevcenko I. Hagiography of the Iconoclast Period // Iconoclasm. – Birmingham, 1977. – P. 121–127; Каждан А. П., Шерри Ли Ф» Ангепиди X. История византийской литературы. – СПб., 2002. – С. 464). Тем не менее, к середине X в. этникон «рос» стал привычным в византийской традиции и постепенно был «втянут» в греческую парадигматику. Это было связано с формированием во второй половине IX – первой половине X вв. древнерусской народности и становлением Древнерусского феодального государства, когда по всей территории расселения восточных славян от Киева до Ладоги складывается своеобразная «дружинная культура», впитавшая в себя и сплавлявшая воедино элементы разноэтничного происхождения. Под эгидой великокняжеской государственной власти возникло расширительное географическое понятие «Русь», «Русская земля», которое нашло отражение у Константина во встречающемся впервые в византийской литературе названии Rosia (оно засвидетельствовано также в трактате «О церемониях» – Constantine Porphyrogenetus. De ceremoniis aulae byzantinae libri II / E ree. Io. Iac. Reiskii. – Bonnae, 1829. – Vol. 1. – P. 594. 18, 691. 1).
1276
В VIII–XI вв. термин «Хазария» обозначает в византийских источниках страну народа хазар (chazaroi). Последний этноним является византийской передачей тюркского самоназвания хазар. Византия в период с VII по IX в. активно старалась вовлечь хазар в союзные коалиции против персов, затем арабов, рассматривая их как традиционных, надежных союзников в Северном Причерноморье, поскольку и тем и другим угрожали общие враги. Охлаждение византийско-хазарских отношений, а затем их постепенное все большее обострение наблюдаются с конца VIII – начала IX вв., когда отпала необходимость совместной борьбы с арабами и возникли очаги напряжения в Закавказье и Крыму. Последняя попытка урегулировать, наладить отношения относится к концу 830-х гг., когда это вылилось в строительство византийцами для хазар царской крепости Саркел на Дону, а также в создание фемы Климата и Херсона в Таврике. Однако разграничение зон влияния не спасло положения, которое продолжало ухудшаться к концу IX – началу X вв., когда к проблемам хазар добавилась конфронтация с их бывшими союзниками-венграми. С этого же времени на хазарскую степь интенсивно наступали печенеги (Плетнева С. А. Хазары. – 42-е изд., доп. – М., 1986. – С. 67–68). К середине X в. северные области Хазарии были уже заняты печенегами и даже номинально не входили в состав каганата. К этому времени отношения Византии с Хазарией нормализовались, но во второй половине 60-х гг. X в. она была разгромлена князем Святославом и вскоре перестала существовать как государство (Плетнева С. А. Указ.соч. – С. 71 слл.).
1277
Политическое объединение группы адыгских племен, обитавших на побережье Черного моря между Кубанью и церковным центром Зихийской епархии – Никопсисом (вероятно, между совр. Гаграми и Адлером).
1278
В греческом тексте – misthon.
1279
В греческом тексте – е diakonia («служба, служебная обязанность, служебное поручение»),
1280
В греческом тексте – tes douleias («услуги, службы»).
1281
Название «blattia» («пурпур») применялось византийцами к высококачественным тканям, в том числе шелковым и льняным, для крашения которых использовалась дорогая пурпурная краска (Liddel H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon. – Oxford, 1951. – Vol. 1. – P. 318).
1282
Прандиями (prandia) назывались покрывала, головные платки, вероятно, ленты, повязки, мелкий галантерейный товар и, вообще, готовые к употреблению изделия из ткани, преимущественно льняной (см.: Theophanis Chronographia ex rec. С. de Boor. – Lipsiae, 1883. – Vol. 1: Textum graecum continens. – P. 232; Constantine Porphyrogenetus. De ceremoniis… – P. 189; Византийская книга Эпарха. – М., 1962. – C. 156; Беляев Д. Ф. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. – СПб., 1891. – Т. 1. – С. 17).
1283
Харерии (chareria) – вид шелковой (иранской) ткани (Sophocles Е.А. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. – New York, 1957. – Vol. 2. – P. 1161; Du Cange C. Glossarium… – P. 1733). В Книге эпарха упоминается среди товаров сирийского, арабского импорта: «ткань харерия, доставляемая из Селевкии и других местностей» (Византийская книга Эпарха. – М., 1962. – V. 1, с.53, 78, 157).
1284
Кожаные пояса (sementa) с разнотипными накладными бляшками, пряжками, наконечниками, подвесными ремешками были в широком употреблении среди дружинников раннесредневековой Евразии. Иногда они служили указанием на статус владельца, его знатность, украшались золотом, драгоценными камнями. Случалось, византийцы платили ими дань, жаловали варварам в качестве подарков (см.: Ковалевская В. Б. Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. – М., 2000. – С. 111–174, 214–215).
1285
Перец (peperin) в Византию привозили с Востока, через Иран, Кавказ, Трапезунд, причем перец длинный и белый, как и другие пряности, например, корицу, нард, кардамон (Византийская книга Эпарха. – X. 1, с.203; Pigulewskaja N.V. Byzanz auf den Wegen nach Indien. – Berlin, 1969. – S. 78; Ирмшер И. Византия и Индия // ВВ. – 1984. – Т. 45. – С. 67; Сорочан С. Б. Византия IV–IX веков: этюды рынка. – Харьков, 1998. – С. 218). Его использовали для приготовления мясных блюд, а также как добавку к вину (Геопоники. – М.; Л., 1960. – С. 154).
1286
…dermatia alethina Parthika. Квота на красные кожи особо оговаривалась в соответствующей клаузуле договора 716 г., подписанного василевсом Феодосием III и патриархом Германом с «владетелем» болгар Кермесием (Кормисошем). Она была повторена в сентябре 812 г. в требованиях хана Крума, что отражает важность этого товара для иноземцев и их желание владеть подобными престижными ромейскими изделиями (см: Theophanis Chronographia ex rec. С. de Boor. – Lipsiae,1883. – Vol. 1. – P. 497. 16–26).
1287
…будучи свободными и как бы самостоятельными – eleutheroi gar ontes kai oion autonomoi. Очевидно, печенеги были совершенно независимыми, «автономными» контрагентами в отношениях с Империей.
1288
…никогда и никакой услуги не совершают без платы – oudemian douleian aneu misthou poiousi pote. B пер. Х.-Ф. Байера: «…никакой службы без жалованья никогда не исполняют» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 361).
1289
Служители василевса, выполнявшие его поручения (Oikonomides N. Les listes… – P. 370).
1290
Этим редко встречающимся в византийских текстах термином Константин обозначает область расселения печенегов. He исключено, что главы 7 и 8 можно рас- сматривать как описание процедуры, которой следует придерживаться византийским послам, отправляющимся к восточным («хазарским») и западным печенегам (к первым – через Херсон, ко вторым – через земли, близкие к устью Дуная, Днестру и Днепру).
1291
В греческом тексте – diakonias (служения, службы, услужения).
1292
В греческом тексте – epizetein, что означает не только «требовать», но и «спросить», «искать» (это больше отвечает стилю взаимоотношений ромеев с «автономными» печенегами).
1293
Здесь составитель прибег уже к иному греческому термину, означающему «заложники» (opsidas). Ср.: гл. 1. Согласие стать заложником было сопряжено с риском, но сулило неплохую прибыль, гарантированное получение подарков, вознаграждения, причем вперед, еще до того, как посольская миссия византийцев оказывалась выполнена. Очевидно, печенеги охотно шли на такого рода беспроигрышные соглашения и в желающих стать заложниками не было недостатка.
1294
Об охранниках (diasostas) см.: BrehierL. Les institutions… – P. 310.
1295
Слово kratoumenous имеет несколько иной смысловой оттенок, нежели предлагаемый переводчиками «под стражей» и может означать «под началом», «под властью».
1296
Константин в данном случае прибег к обычному термину to kastron, однако надо учесть, что он означает не столько крепость в ее точном смысле, сколько укрепленный город, имевший различные, а не только оборонные, военные функции. С этой точки зрения в VII–X вв. все города Империи были кастра (Сорочан С. Б. К сведениям Ибн-Хордадбеха о городах ар-Рума // На честь заслуженного науки Украiни А. П. Ковалiвського 1895–1969 pp. Мiжнарод. наук. конф. – Харюв,1995. – С. 51–53; Сорочан С. Б. О роли военного фактора в судьбе византийского города в «темные века» // Античность и средневековье Европы: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1996. – С. 186–198; Гоголев Д. А. К вопросу о городском характере поселений Византии в VII – первой половине IX вв. // Вестник Тюмен. гос. ун-та. – История. – 1996. – Вып. 1. – С. 89–92; Каждан А. П., Шерри Ли Ф., Ангелиди X. Указ. соч. – С. 31).
1297
В греческом тексте – eis ten choran auton («в их область», «в их землю»).
1298
Военные морские суда; подразделялись на несколько видов, от чего зависела их вместимость (по разным версиям, от 40 до 500 человек). Cm.: Ahrweiller Н. Byzance et la mer. – Paris, 1966. – P. 411–417; Antoniadis-Bibicou H. Etudes d’histoire maritime de Bzyance. – Paris, 1966. – P. 94.
1299
Вероятно, послы к западным печенегам, о которых здесь идет речь, могли встречать их прежде всего в устье Дуная. В этот период Дунай был границей Болгарии и территории распространения печенегов (Златарски В. История на Българската държава през средните векове. – София, 1971. – Т. 1. Ч. 2. – С. 373 сл.)
1300
…В стороне Булгарии – eis to meros Boulgarias («в регионе Булгарии»). Ср. в гл. 37: «Пачинакия отстоит…от Булгарии на пол дня». Скорее всего, границей между Печенегией и Болгарией было устье Дуная. В противном случае пришлось бы признать, что часть печенегов жила на территории, подвластной болгарскому царю (см.: Божилов И. България…–С. 55 слл.).
1301
…no направлению к области Днепра, Днестра и других там имеющихсярек – ері to meros tou Danapri kai tou Danastri kai ton eteron ton ekeise onton potamon
1302
…в Херсон – kai choras tou eis Chersona («в края Херсона»).
1303
…кратчайшим путем и быстрее – syntomos kai tacheos («короче и скорее»).
1304
Отсутствие поблизости ромейского города или крепости не позволяло поступать с заложниками так, как с ними поступали в Херсоне, поэтому их содержали под охраной на судах.
1305
«Заканы» (zakana) – обычаи. Вероятно, это славянское слово и понятие, которые, как и нормы права, были заимстованы печенегами у славян. Впрочем, термин «за- кан» в качестве идиомы проник даже в средневековый греческий язык (он воспроизведен в словаре-лексиконе «Суда» X в. под словом daton).
1306
Понятие «друзья» (philous) использовалось византийцами для обозначения своих союзников. 06 их статусе см.: DölgerF. Byzanz und die europäische Staatenwelt. – Ettal, – S. 38, 65–66.
1307
Единственное известное свидетельство o миссии клирика Гавриила к венграм, основанное, несомненно, на словах самого посланника. Наиболее вероятно предположение Г. Моравчика, что поездка имела место после 927 г. Между 913 и 925 гг. Виэантия рассчитывала на помощь печенегов в войне с Болгарией, так что вряд ли могла направ- лять венгров против своих потенциальных союзников. Однако ситуация изменилась после смерти царя Симеона и заключения мира с Болгарией в 927 г.: Империя могла быть заинтересована в отвлечении венгров и печенегов от своих границ, толкнув их друг на друга. В отказе венгров от предложения Гавриила (вытеснить печенегов и занять область, из которой венгры некогда были изгнаны печенегами) Моравчик видит отзвук поражения венгров от печенегов в 896 г. (Moravcsik Gy. Byzantium and the Magyars. – Budapest, 1970. – P. 53–54).
1308
…delopoiei – «объявляет», «заявляет». Именно из этих слов Г. Моравчик заключил, что во время посольства Гавриила венгры («турки») были зависимы от Византии. Однако, слово «повеление» в рассматриваемом предложении отнесено не к венграм, а к Гавриилу. Константин Багрянородный в трактате «О церемониях» говорит о том, что к архонтам венгров посылались grammata, а этот термин имеет в виду независимых контрагентов.
1309
Греческий термин «архонт» (archon) был широко распространен в византийской социально-политической практике (Ферлуга J. Ниже Bojно-административне jединице тематског уреченьа // ЗРВИ – 1953. – Кн. 2. – С. 90–92). В раннесредневековой византийской литературе термином «архонт» обозначали как знатных персон, имевших определенный титул и занимавших высокую должность (глава города, архонтии, провинции, воинского подразделения, административного учреждения и т.п.), так и не имевших должности, но влиятельных богачей, а также чужеземных правителей (болгарских ханов и царей, русских князей, племенных вождей кочевников и т.д.) (ср.: Angold М.А. Archons and Dynasts: Local Aristocracy and the Cities of the Later Byzantine Empire // The Byzantine Aristocracy. – Oxford, 1984. – P. 236–253; Ферпуга Я. Архонтат Далмации // BB. – 1957. – Т. 12. – С. 47–48; Ferluga J. Archon. Ein Beitrag zur Untersuchung der südslawischen Herrschertitel im 9. Und 10. Ih. Im Lichte der byzantinischen Quellen // Tradition als historische Kraft. – Berlin; New York., 1982. – S. 254–266; Koder J. Zu den Archontes der Slaven in De administrando imperio, 29. 106–115 // Wiener Slavistisches Jahrbuch. – 1983. – Bd.29. – S. 128–131; Oikonomides N. L’archonte slave de l’Hellade au Ville siecle // BB. – 1998. – T. 55 (80). – 4. 2. – P. 111–119). Тот же термин предписывалось употреблять в императорских грамотах при обращении к вождям венгров (Constantine Porphyrogenetus. De ceremoniis… – P. 691. 4).
1310
Место, трудное для понимания. Возможные варианты перевода, предложеннык Г. Моравичком и Р. Дженкинсом: «…Мы не поставим себя после печенегов» или «Мы не поставим себя на путь печенегов».
1311
Из последних строк главы явствует, что венгры были независимы от византийского императора: его поручение не было выполнено, так как не отвечало интересам венгров. Фраза, очевидно, заимствована из устной речи и отражает, скорее всего, этнический стереотип печенега, существовавший у венгров.
1312
Константин сообщает важные сведения, характеризующие отгонное скотоводство как основу хозяйства печенегов: в поисках пастбищ они перемещались в летнее время из-за Днепра к берегам Черного моря и дунайским равнинам, а осенью отходили назад. Судя по археологическим данным у печенегов не было постоянных зимовищ, как не было и кладбищ. Ориентировка скелетов в большинстве степных впускных погребений головой на юго-запад и запад – показатель зимних захоронений. Курганы в южнорусских степях расположены беспорядочно. Очевидно, печенеги находились на таборной стадии кочевания (Плетнева С. А. Печенеги, торки, половцы // Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. – М., 1981. – С. 217–218, 221; Толочко П. П. Кочевые народы степей… – С. 77–78).
1313
Походы «варваров» на судах-моноксилах против Византии упоминаются в византийских источниках с середины V в. Их использовали авары и славяне во время осады Константинополя в 626 г. (Chronocon Paschale. – Bonnae, 1832. – P. 720. 20). Никифор в «Бревиарии» называет славянские и болгарские корабли monoxyla akatia и добавляет, что болгары добирались на них до Ираклии в 718 г. (Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica / Ed. C. de Boor. Accedit Ignatii Diaconi Vita Nicephori. – Leipzig,1880. – P. 55. 19–56. 22). Названия ploia и monoxyla применял к судам VII–VIII вв., как византийским, так славянским и арабским, автор гимнаакафиста, воспевший отражение морских атак «варваров» от Константинополя в 626 и 717/718 гг. (Hymnus Acathistus // PG. – 1860. – Т.91. – Col.1352 A–D, 1356 В (thalassian ploion, xylon, monoxyla barbaro). В гомилиях, приписываемых Феодору Синкеллу (конец VIII – начало IX вв.), фигурирует несколько терминов, обозначающих корабли (skeye, xyla, schedia), в том числе monoxyla, причем применительно для славянских судов (De obsidione Constantinopolis homilia / Ed. L. Sternbach // Analecta Avarica. – Cracoviae, 1900. – P. 306–311). Иоанн Скилица, рассказывая о нападении русского флота в 1043 г., тоже подчеркивает, что моноксилы как тип корабля присущи именно русским (Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Rec. I. Thurn. – Berolini; Novi Eboraci, 1973. – P. 430. 45–47). В узком смысле под термином моноксилы, переводимом дословно как «однодревки» подразумевались небольшие корабли, лодки, основой которых был древесный ствол либо они были выдолблены из одного бревна. Византийские авторы относили суда с таким названием к народам без развитой морской традиции, совсем не обязательно только славянам (подр. см. – Strasle Р. М. То monoxylon in Konstantin VII Porphyrogenetos // Etudes balkaniques. – 1990. – Ne 2. – P. 70–77). Среди таких судов (en skaphesi monoxylois, tois monoxylois ploiois) были как плоскодонные лодки, так и сравнительно крупные корабли размером от 6 до 18 м в длину, способные брать от 30 до 60 человек и даже лошадей, другие грузы. Согласно договору о дани, взимаемой князем Олегом с ромеев, в ладье русов помещалось 40 человек (Повесть временных лет. – М.; Л., 1950. – Ч. 1. – С. 24). Они имели якоря, оснащались «парусами, мачтами, кормилами» (ta te armena kai ta katartia kai ta auxhenia), поэтому называть все такие суда «однодревками» можно весьма условно, учитывая их подразделение на несколько типов (Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989. – Гл.9. 84–85, с.48; Strasle Р. М. Op. cit. – Р. 70–77; Havlikova L. Slavic Ships in 5th–12th Centuries Byzantine Historiography // BS. – 1991. – T. 52. – P. 89–90, 103–104). По мнению Г. Г. Литаврина, собственно долбленки использовались в качестве килевой части более сложных конструкций кораблей с клинкерной обшивкой (с наставными бортами из планок) (Литаврин Г. Г. О юридическом статусе древних русов в Константинополе в X столетии // Византийские очерки. – М., 1991. – С. 77). В зависимости от характера плавания (по морю или рекам) и его целей (торговые, военные) они подразделялись у русов на несколько видов (ладьи, струги и челны) (см.; Воронин H. Н. Средства и пути сообщения // История культуры Древней Руси. – М.; Л., 1948. – Т. 1. – С. 282–288). Использовали их и ромеи. Рассказывая о посылке фессалоникийцами кораблей для закупки продовольствия у македонских славян во второй половине VII в. составитель второй части Чудес св. Димитрия перечисляет эти суда, называя их skeye, karabon и monoxyla (Lemerle P. Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Demetrius et la penetration des Slaves dans les Balkans. I. Le Texte. – Paris, 1979. – P. 214). Видимо, в таких «однодревках» можно видеть особый тип судов, существовавший в европейской части Империи, тесно контактировавшей со славянским миром. Впрочем, они были в ходу и у малоазийских греков (Kahane H., Kahane R., Tietze A. The Lingua Franca in the Levant. Turkish Navtical Terms of Italian and Greek Origin. – Urbana, 1958. – P. 545–546). В целом, это был комбинированный тип судов, служивший как для военных, так и для транспортных целей (ср. Мишулин А. В. Материалы к истории древних славян // ВДИ. – 1941. – № 1. – С. 280, № 91).
1314
Для пятого порога Константин приводит «росское» название Barouphoros и славянское Boulneprach, что, как и в остальных случаях, указывает на информаторов полученных сведений. Два языковых пласта в ономастике говорят о наличии у автора сведений, почерпнутых со слов местных жителей. В то же время включение именно в этот пассаж собственно константинопольских реалий: сопоставление ширины первого по- рога с залом для верховой игры в мяч – циканистерием, а переправы Крария с ипподромом указывают на то, что автором его являлся житель столицы Романии, либо побывавший в Киеве купец, либо, скорее всего, член византийского посольства, участвовавший в подписании договора 944 г. Его информатором в свою очередь мог быть один из тех росов, что сопровождал автора в плавании через Днепровские пороги по меньшей мере до о. Хортица. Он мог быть достаточно высокопоставленным лицом, членом великокняжеской дружины, скандинавом по происхождению, одним из тех, чья подпись стоит в договоре 944 г. Названный в тексте порог отождествляется с шестым днепровским по- рогом, носившим название Волнигский, Волнисский (укр. Волніг, Вовніг – от древнерусского «вълна» – «волна») и лежавшим в 14 км ниже Ненасытецкого.
1315
По мнению H. В. Малицкого, слово limnen можно интерпретировать как «заводь» или «запруда», что указывает на наличие небольшой гавани внизу порога (Латышев В. В., Малицкий H. В. Сочинение Константина Багрянородного «06 управле- нии государством» // ИГАИМК. – 1934. – Вып. 91. – С. 56, прим. 24).
1316
По мнению H. В. Малицкого, слово limnen можно интерпретировать как «заводь» или «запруда», что указывает на наличие небольшой гавани внизу порога (Латышев В. В., Малицкий H. В. Сочинение Константина Багрянородного «06 управле- нии государством» // ИГАИМК. – 1934. – Вып. 91. – С. 56, прим. 24).
1317
В той форме, как они даны Константином, три компонента названия этого порога не соответствуют друг другу ни морфологически, ни семантически (Stroukoun – Napreze – «mikros phragmos»). Обычно этот порог отождествляется с восьмым или девятым порогом, называвшимся соответственно Лишний и Вильный (Вольный). См.: Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. – London, 1962. – Vol. 2: Commantary by F. Dvornik, R. J. Jenkins, B. Lewis et al. – R 52.
1318
«Переправу Крария» (perama tou Krariou) принято отождествлять c засвидетельствованным c конца XVI в. названием брода Кичкас, расположенного в 15 км ниже порога Вильный, последнего из днепровских порогов. Как следует из текста, брод был важным пунктом на торговых путях юга Восточной Европы. Здесь пересекались Днепровский путь с путем из Киева в Крым, а также маршруты сезонных миграций печенегов.
1319
Собственно «херсониты из Росии» (аро Rosias оі Chersonitai). Обычно считается, что это жители Херсона, возвращающиеся обратно из Руси.
1320
В греческом тексте – kai оі Patzinakitai ері Chersona. Вероятно, речь идет о печенегах, обитавших на правобережье Днепра, которые переправлялись на левый берег, чтобы продолжать путь к Херсону. Впрочем, если перевести предлог ері как «при», тогда возможно обозначение обратного движения печенегов, от Юго-Западного Крыма к Днепру и далее через брод Кичкас.
1321
По данным археологии и письменных (косвенных) свидетельств, ширина ипподрома, располагавшегося близ Большого императорского дворца, составляла около или более 100 м. Ширина Кичкасской переправы определяется в 150–180 м.
1322
В греческом тексте – to de ypsos аро kato eos otou prokyptousin uphaloi. Место, трудное для понимания (ypsos означает и «длина», и «высота»).
1323
По мнению Г. Г. Литарина, речь идет о высоком правом береге Днепра, с которого спускались печенеги к переправе. Однако, если учесть возможность движения печенегов сюда от Херсона, не исключена стрельба из лука и стычки, завязываемые кочевниками с левобережья. Это тем более вероятно, что глагол katerchontai означает не только «спускаются» (в таком случае он используется применительно к водам потока), но и «идут», «отправляются», и даже «возвращаются».
1324
Современный болгарский портовый г. Несебр. Г. Г. Литаврин полагает, что здесь оставалась вплоть до возвращения большая часть торговых судов и большинство гребцов и воинов, сопровождавших купеческую флотилию росов (9/10 от общего числа участников). В Константинополь отправлялись лишь товары (может быть, на византийских судах) и купцы (как и послы князя и знати росов), которые в соответствии с договорами (907) 911 и 944/945 гг. имели право располагаться в эмволе – подворье пригородного монастыря св. Мама близ ворот Ксилокерка (Ксирокерка) примерно в километре от берега Мраморного моря, а, возможно, останавливались и в окрестных селах (Литаврин Г. Г. О юридическом статусе древних русов в Византии… – С. 77, 80–81; Сорочан С. Б. Византия IV–IX веков: этюды рынка. – С. 225–226)
1325
Тюркские кочевые племена узов (огузов, гузов восточных сочинений или торков русских летописей) населяли в X в. территорию к северо-востоку от Каспийского моря, между Волгой и Аральским морем (Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. – Berlin, 195e3.2– Bd.l. – S. 90–94). Еще в заволжских степях начался процесс не только вытеснение печенегов, но и слияния шедших с востока огузских племен с печенегами, на что обратили внимание уже современники, например, Ибн Фадлан (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. – Харьков, 1956). В донских и приднепровских степях узы кочевали недолго: они прошли по Причерноморью на Балканы, устремившись к византийским пределам (Степи Евразии в эпоху средневековья. – С. 213). Ниже, в гл. 37, сказано об их союзе с хазарами против печенегов на рубеже IX–X вв., но только в начале XI в. узы массово хлынут в земли, занимаемые печенегами, и потеснят их (Толочко П. П. Кочевые народы степей… – С. 80). О союзе «турок» (гузов) с хазарами против алан упоминал и Кембриджский Аноним, писавший в первой половине или около середины X в. (см. в Антологии)
1326
От греч. exousia – «власть» и krateo – «владеть», «иметь», то есть «обладатель власти». Одно из византийских наименований правителя иноземного народа. Аланы – ираноязычный этнос центрально-азиатского происхождения. Осели восточнее Дона и севернее Кавказа. В конце I–II вв. аланы продвинулись на запад и стали угрожать римской империи. Часть из них оставалась жить на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье. Формирование аланской материальной культуры следует относить к V в. В VI–VII вв. земли аланов простирались от Кубани до Дагестана. Понятие «аланы» в раннее средневековье, вероятно, прикрывало собой целый союз племен. В IX в. аланы были обращены в христианство, что доказывает их непрекращающиеся связи с Византией. В начале X в. Алания стала играть роль аванпоста на северо-восточной периферии Византии против хазар и кочевников южнорусских степей. Она во многом способствовала ослаблению политического влияния Хазарского каганата. Победы князя Святослава над хазарами в 965 г. завершили и борьбу Аланского политического образования за освобождение от влияния хазар. Очевидно, после этого произошло оформление раннефеодального государства Алании на Северном Кавказе (подр. см: Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. – К., 1899. – Кн. 13. – Отд. 2; Кузнецов В. А. Алания в X–XIII вв. – Орджоникидзе, 1971; Тогошвили Г. Д. Византия и Алания // Известия АН Грузинской ССР (Мацне). Сер. ист., археол., этногр. и ист. искусства. – 1978. – № 2. – С. 60–79; Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IV–X вв. – Л., 1979; Кузнецов В. А. Очерки по истории алан. Орджоникидзе, 1984).
1327
В. А. Кузнецов локализует «девять климатов Хазарии» (ta еппеа klimata tes Chazarias), то есть области, округа, подвластные каганату, лишь в районе Нижнего и Среднего Прикубанья (Кузнецов В. А. Алания в X–XIII вв. – С. 15 сл.). Х.-Ф. Байер предполагает в них созданную хазарами собственную административную структуру на той стороне Дона и Азовского моря (Байер Х.-Ф. История крымских готов… – С. 106). Близок к этой точке зрения А. А. Тортика, относящий к этой территории Нижнее Подонье (Τοртiка О. О. «Девять клiматiв» Костянтина Багрянородного та Пiвнiчно-Захiдна Хазарiя: Проблема локалiзацii и iдентифiкаци // Вiсник Харкiвсько’i державноi академii культурь – 2004. – Вип. 12–13. – С. 33–43). А. Я. Гаркави, напротив, связывает их с «Хазарской областью на Кавказе» (Сведения еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1874. – С. 148). С ним солидарен А. В. Гадло, который тоже считает, что здесь имеется в виду более обширный район Северного Кавказа, борьба за влияние, в котором и определяла характер алано-хазарских конфликтов (Гадло А. В. Этническая история… – С. 196–197). В любом случае, видеть в этих областях так называемые климата Таврики нет никаких оснований (ср.: Герцен А. Г. К вопросу о территории Херсонской фемы // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. 1833–1988. – Севастополь, 1988. – С. 22; Майко В. В. Етнокультурнi зв’язки Криму з Поднiпров’ям i Пiвничним Кавказом в VII–X ст.: Автореф. дис. … канд. ист. наук / Iнститут археологи НАНУ. – К., 1998. – С. 15).
1328
…поскольку из этих девяти климатов являлись вся жизнь и изобилие Хазарии – ek gar ton ennea touton klimaton e pasa zoe kai aphthonia tes Chazarias kathesteken. Следует учесть, что слово zoe имеет также «имущественный» оттенок и может пониматься как «средства к жизни». Aphthonia – «богатство», «готовность дать все».
1329
В обоих случаях применительно к Херсону и Боспору Константин использо вал термин «кастрон» (tou kastrou), который шире по значению, чем просто «крепость». Оба центра были важнейшими укрепленными городами Таврики, причем первый из них изначально считался подвластным императору ромеев, а второй стал таковым с правления Юстина I (518–527). Под названием Боспор (Воспор, Восфор) византийские авторы обычно подразумевали бывший город Пантикапей, который стал называться на новый лад, вероятно, уже с IV в. В тюркской форме название города звучало как К-р-ц, К-р-х. Вопрос о полном включении Боспора в состав Хазарского каганата в конце VII–IX вв. остается спорным (ср.: Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. – Симферополь, 1999. – С. 185–190, 226–227; Науменко В. Е. Место Боспора в системе византийско-хазарских отношений // БИАС – Симферополь, 2001. – Вып. 2. – С. 336–361; Сорочан С. Б. Византия и хазары в Таврике: господство или кондоминиум? // ПИФК. – М.; Магнитогрск, 2002. – Вып. 12. – С. 520–525). В последней трети X–XI вв. здесь находился центр одноименной византийской фемы.
1330
…когда хазары не желают хранить дружбу и мир В отношении василевса – еап оі Chazaroi ou boulontai ten pros ton basilea philian kai eirenen terein («когда хазары не хотят с василевсом дружбу и мир соблюдать»).
1331
…нападая на идущих без охраны [при переходах] к Саркелу, к климатам и к Херсону – aphylaktos autois epitithemenos en to dierchesthai pros te to Sarkel kai ta klimata kai ten Chersona. Глагол epitithemi имеет значение «налегать» или «налагать» что-либо, в данном случае, видимо, какой-то побор, мало чем отличный от грабежа. Крепость Саркел на Дону (византийский «aspron ospition» – Белый приют) имела ежегодно сменяемый военный гарнизон из наемников и, вероятно, являлась летней резиденцией хагана и, вместе с тем, полифункциональным укрепленным центром, в том числе таможенным пунктом, на важном пути, который проходил поблизости от земель, заселенных аланами-ясами (асами), и вел через западные рубежи Хазарии в области Южной и Юго-Западной Таврики и Херсон (см.: Константин Багрянородный. Об управлении… – Гл. 42. 21–24, 34–35, с.170–173; Продолжатель Феофана. – СПб., 1992. – С. 56–57; Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям… – С. 53–54; Lewicki T. Zrodla arabskie do dziejow slowiansze zyzhy. – Wroclaw; Krakow, 1956. – T.l. – S. 38; ср.: Плетнева С. А. Саркел и «шелковый путь». – Воронеж, 1996. – С. 14–55; Флеров В. С. Крепости Хазарии в долине Нижнего Дона (этюд к теме фортификации) // Хазарский альманах. – Харьков, 2002. – Т. 1. – С. 151–168). Примечательно указание писавшего на порядок размещения городов и земель с востока на запад: сначала Саркел, затем климата и, наконец, за ними Херсон, что соответствует представлению о районировании Таврики и размещению областей-климата между Боспором и Херсоном. Известно, что аланы появились в Юго-Западном Крыму уже с III–IV вв. и в дальнейшем жили в окрестностях Чуфут-Кале и, возможно, в районе Черной речки (Kennen П. И. Крымский сборник, или О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. – СПб., 1837. – С. 309; Кулаковский Ю. А. Епископа Феодора «Аланское послание» // ЗООИД. – 1898. – Т. 21. – С. 11–27; Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям… – С. 94–168; Кулаковский Ю. А. Прошлое Тавриды. Краткий исторический очерк. 2-е изд. – К., 1914. – С. 98–101; Шестаков С. П. Очерки по истории Херсонеса в VI–X вв. по Р. Хр. – С. 121–124; Бертье-Делагард А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде. 3. Справки о Фуллах // ИТУАК. – 1920. – № 57. – С. 123–124; Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-кале. – Симферополь, 1993. – С. 44). Ю. А. Кулаковский видел в аланах, способных перекрыть хазарам проход к Саркелу, климата и Херсону, неких особых, «припонтийских» аланов. Однако В. А. Кузнецов убедительно показал, что в данном случае сочинение Константина отражает общую политическую ситуацию в Центральном Предкавказье, где аланы установили к середине X в. свой контроль над степями Северного Кавказа: в расширении территорий под пастбища проявлялась острая потребность развивавшейся экономики аланов, сдерживаемой до X в. их зависимостью от хазар (Кузнецов В. А. Алания в X–XIII вв. – С. 23 сл.).
1332
В греческом тексте – tou kolyein autous (дословно «мешать им» или «удерживать их»). В IX – первой трети X вв. обострились ромейско-хазарские отношения; Византия побуждала к нападениям на Хазарию алан, росов (русов), печенегов. Не всегда эта политика приносила Империи успех. В спровоцированном ею алано-хазарском конфликте, который произошел в первые десятилетия X в., хаган Аарон с помощью наемников-узов («турок») разбил аланов и взял в плен их предводителя. Победитель предпочел, однако, не устанавливать свое непосредственное господство в Алании: хаган принял пленника с почетом и даже породнился с ним, женив на его дочери своего сына Иосифа (будущего царя Иосифа, «дни» которого придутся на «дни злодея Романа», гонителя евреев, очевидно, Романа Лакапина (919–945). Возможно, именно в результате этого поражения аланы на время даже возвратились к язычеству, изгнав ромейских священников (Артамонов М. И. История хазар. – Л., 1962. – С. 363–373). Неудачей завершился и морской поход «царя Русии» Хелгу (Халгу) на хазарский Самбарай (Самкерц-Таматарху), на который его подбил все тот же «злодей Роман», поплатившийся за это разгромом византийских владений в Крыму хазарами (см.: Кембриджский Аноним).
1333
Содержание гл. 11–12 не позволяет изображать отношения Византии и хазар идиллическими до середины X в., когда якобы наступила внезапная «крайняя враждебность» из-за обращения хазар в иудаизм (ср.: Цукерман К. Хазары и Византия: первые контакты // МАИЭТ. – 2001. – Т. 8. – С. 312–313). Они стали портится гораздо раньше и поэтому контрастного, резкого понижения отношений в это время не произошло. Скорее наоборот, к середине X в. хазаро-византийская политика вернулась в плоскость стабильности (см.: Письмо Хасдая Ибн Шапрута к царю Иосифу).
1335
Междуречье Атила и Геиха как места расселения печенегов обычно отождествляются исследователями с междуречьем Волги – Урала – Эмбы (Бартольд В. В. Сочинения. – M., 1971. – Т. 5. – С. 91, 204; Minorsky V. Hudad al-Alam. «The Regions of the World». A Persian Geography 372 A. H. – 982 A. D. – London, 1937. – P. 313, 443; Ппетнева C. A. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях // МИА. – 1958. – № 62. – С. 163; Байер Х.–Ф. История крымских готов… – С. 112). Впрочем, Й. Маркварт не исключал возможности идентификации Атиля с Доном (Marquart J. Osteurpäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jh. – Leipzig, 1903 (Reimp. Hildesheim, 1961). – S. 78–79).
1336
См. выше гл. 9,10. Сведения Константина о соседстве печенегов с узами (гузами, огузами) находят также соответствие в данных так называемой «Анонимной записке о народах Восточной Европы» (вторая половина IX в.), переданной персидским географом XI в. Гардизи. Согласно этим данным, на расстоянии 17 дней пути от печенегов лежал город Гургандж (совр. Коня-Ургенч в Туркмении); путь к нему проходил по берегу Аральского моря (Zrodla arabskie do dziejow Slowianszczyzny / Wyd. T. Lewicki. – Wroclaw; Krakow; Warszawa, 1977. – T.2. – Cz.2. – S. 11–13, 34–35; Бартольд В. B. Сочинения. – M., 1973. – T. 8. – C. 35,56). Видимо, «узы» (Ouzous) Константина это огузское население указанных среднеазиатских областей. В конце IX в. часть печенегов пере- шла Атиль (Волгу – Дон), их кочевья продвинулись далеко на запад и, действительно, могли оказаться пограничными хазарам и роменской группировке славян. Кембриджский Аноним отмечал, что «турки» (узы) то воевали с хазарами, то, будучи нанятыми ими, обращались против врагов хазар – алан (см. Антологию).
1337
«Пятьдесят лет назад» (pro eton de pentekonta), то есть в 898–902 гг., если ориентироваться на принятую в науке датировку написания сочинения «Об управлении империей». Однако это место находится в противоречии со следующим ниже свидетельством, что изгнанные (50 лет назад) узами печенеги «до сего дня лет пятьдесят пять» (mechri ten semeron ete pentekonta pente), то есть с 893–897 гг., владеют новыми местами, отнятыми ими у венгров. Противоречие может объяснятся продолжительностью работы над трактатом, в который могли делаться вставки, приписки, пояснения и через пять лет после начала его составления. В связи с этим сдвигалась и точка отсчета прошедших событий. По мнению Х.-Ф. Байера, Константин Багрянородный писал свою книгу пять лет, вплоть до смерти в 959 г., «…и из-за этого исправил цифру» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 112). Но даже если взять 948 г. за самый ранний от начала работы (хотя выписки, заготовки для будущей энциклопедии «О народах» могли делаться еще раньше), тогда мы получим последнее десятилетие IX в. как время изгнания печенегов узами (в союзе с хазарами). Тогда же, почти одновременно печенеги, в свою очередь, вызвали передвижение венгров к западу, в так называемую Ателькузу, из которой уже через несколько лет изгнали венгров дальше, в Моравию (см. ниже).
1338
Видимо, здесь был использован печенежский информатор, так как повод к войне приписывается хазарам и узам (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 112).
1339
Сообщения о владениях узов (гузов) в междуречье Волги и Урала подтверждают арабо-персидские географы середины X в. Абу-Исхак ал-Истахри ал-Фарси и Ибн Хау-кал (Bibliotheca geographorum arabicorum. – Lugduni Batavorum, 1870. – T.l. – P. 9, 222; 1873. – T.2. – F.2. – P. 14, 393). На западе их соседями были хазары и булгары (в нижнем и среднем Поволжье), на востоке – карлуки (то есть Прибалхашье), на севере – кимаки (в Прииртышье) (см.: Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. – Ашхабад, 1959. – С. 78–80). Известия о гузах содержит также отчет арабского путешественника Ибн Фадлана, проследовавшего через их земли в 921 г. на пути к волжским булгарам (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… – С. 125–128).
1340
…турок (tous Tourkous) – то есть в данном случае венгров (мадьяр).
1341
Локализация «страны» (choras) венгров (занятой печенегами) остается спорной, а дата овладения новыми хозяевами этой землей определяется по-разному. Известие о переселении печенегов в результате войн с гузами и хазарами на территорию мадьяр («турок») сопоставимо с сообщениями восточных географов X в. ал-Истахри и Ибн Хаукала, согласно которым печенеги завоевали земли «между хазарами и Румом» (Византией) (Bibliotheca geographorum arabicorum. – Lugduni Batavorum, 1870. – T.l. – P. 10; 1873. – T.2. – F.2. – P. 15). Сходную информацию содержит персидское анонимное сочинение «Худуд ал-Алам» (80-е гг. X в.), где сказано, что печенеги, покинув места прежнего обитания, расселились на территории «между хазарами и Румом» (Minorsky V. Hudud al-Alam. – § 47). Впрочем, вполне вероятно, что сведения последних двух сочинений восходят к «Книге климатов» ал-Истахри (30-е гг. X в.), сведения которого зависят, в свою очередь, от сочинения географа конца IX в. ал-Балхи (его труд не сохранился). Указания восточных авторов подтверждаются Хроникой аббата Регинона, который сообщает об изгнании венгров печенегами в 889 г. (Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon / Ed. F. Kurze. – Hanover, 1890. – P. 131–132). Очевидно, речь идет о том первом изгнании, которому, по словам Константина Багрянородного, подверглись венгры, когда часть их вместе со своим «первым воеводой» (protos boebodos) Леведи- ей передвинулась из так называемой страны Леведии еще дальше к западу и попала в места Ателькузу (eis topous tous eponomazomenous Atelkouzou; potamou Etel kai Kouzou) – венгерское Этелькез (Etelkoz) – «Междуречье», которые именовались так по печенежским, тюркским и иранским названиям протекавших там рек – Варух (Днепр), Куву (Буг), Трулл (Днестр), Брут (Прут) и Серет (Сирет). Исследователи отождествляют эти места со страной между Днепром и нижним Дунаем (К. Бальке) или с районом Днестра, современной Молдавией (К. Цукерман) (см.: Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 112; Цукерман К. О происхождении двоевластия у хазар и обстоятельствах их обращения в иудаизм // МАИЭТ. – 2002. – Вып. 9. – С. 529). Затем через некоторое время последовало новое нападение печенегов, заставившее венгров уступить эту территорию и уйти из северо-западного причерноморского «Междуречья» в Великую Моравию (см.: Константин Багрянородный. Об управлении… – Гл. 38, с. 158–163; гл. 40. 23–27, с.164–165). Й. Маркварт, ссылаясь на предыдущие по времени события, описанные в Повести временных лет, относит это последнее переселение ко времени вскоре после 889 г., Г. Дьорффи датирует его около 895 г., Х.-Ф. Байер ставит в связь с византийско-болгарской войной 894–896 гг., а К. Цукерман относит примерно к 900 г. (Marquart J.Osteurpaische und ostasiatische Streifzuge. – S. 33–35; Gyorffy Gy. Landnahme, Ansiedlung und Streifzuge der Ungarn // Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. – 1985. T.31. – S. 233–235; Цукерман K. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах
Византии и Хазарии ок. 836–889 г. // МАИЭТ. – 1998. – Вып. 6. – С. 666; Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 112). Если учесть указанные Константином Багрянородным 55 лет и принять за точку их отсчета окончание работы над трактатом-наставлением, мы получим в качестве terminus post quem non приблизительно 897 г., ко всему прочему близкий к первому упоминанию появления печенегов в Северном Причерноморье.
1342
Термин «фема» употребляется здесь не в его техническом, обычном для царской канцелярии X в. значении (военно-административный округ), а как обозначение места, области расселения и даже самого племени. В похожем значении в гл.10 были употреблены «9 климата» в отношении хазарских земель, расположенных вдоль Алании.
1343
Наименования «фем» печенегов после их переселения в бассейн Днепра считаются их племенными названиями. Все формы этих названий в гл. 37 – краткие и расширенные – имеют в основе тюркскую форму и поддаются переводу (см.: Nemeth }. Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklos. – Leiden, 1932. – S. 50; Баскаков H. A. Тюркские языки. – M., 1960. – C. 129).
1344
Структура разделения «фем» (племен), описанная Константином, а именно: восемь округов, состоящих из сорока родов, разделенных на две части, каждая – по четыре, напоминает племенную структуру и современных кочевых народов (Плетнева С. А. Печенеги, токи и половцы… – С. 192). Во главе этих восьми округов (племен) стояли «архонты», то есть племенные вожди. Сорок родов печенегов, подчиненных архонтам, имели, в свою очередь, «меньших» предводителей (elattonas archontas).
1345
Здесь автор главы не касается упомянутого ранее вопроса о сезонных перекочевках печенегов (видимо, наэванных здесь четырех «фем») с левого берега на правый (см. окончание гл. 8).
1346
…Херсона и прочих климатов – kai ten Chersona kai ta loipa klimata. Показатель- Ho, что В этом перечне области Таврики и Херсон названы после Алании, как ближайшей к ним. Ясно также, что херсониты имели дела, в том числе и торговые, меновые, именно с представителями четырех вышеназванных родов восточных («хазарских») печенегов и именно одно из этих родовых племен (eteros laos ton toiouton Patzinakiton) соседствовало c областью Херсона (to merei tes Chersonos parakeintai), как об этом ска- зано в начале гл.6. Если печенежский информатор Константина или он сам не сбился с порядка их расположения, тогда ближайшей «фемой» должен был быть Вулацопон (краткое название – Цопон), что соответствует тюрк. Була Чопон (где Була – имя собственное, а «чопон» – «чабан», то есть пастух).
1347
To есть Венгрией (территория Великоморавии и междуречья Дуная и Савы). См. гл. 42.
1348
Имеется в виду древнерусское племя уличей, проживавшее между Южным Бугом и Днепром.
1349
Речь идет о древнерусском племенном союзе древлян, занимавшем территорию между Днепром, р. Горынью и верховьем Южного Буга.
1350
устанавливаемые соответствия между результатами анализа письменных источников и археологии позволяют уверенно локализовать лензаниан (лендзян) Константина на Волыни и отождествить их с восточнославянскими волынянами. Остается, однако, неясным, почему это племенное объединение обозначено у Константина термином, служившим позднее у восточных славян и венгров для обозначения польской народности.
1351
Византийское понятие дня пешего пути (odon emeron) составляло около 37 км.
1352
Единственное раннесредневековое свидетельство о названии территории расселения финского племени – мордвы (Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. – Berlin, 1958. – Bd. 2. – S. 132).
1353
Важное свидетельство для решения спора о границах между Болгарией и печенегами к середине X в. (см.: гл.8).
1354
…к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе – kai eis Chersona men estin engista, eis de ten Bosporon plesiesteron («к Херсону весьма приближена, к Боспору соседняя»). Значит, речь шла о расстоянии, даже меньшем, чем полдня пути – около 20 км. Если это так, тогда надо признать, что к середине X в. печенеги контролировали уже долины рек Черной и Бельбека, а на противоположном конце Крымского полуострова их владения подходили едва ли не к пригороду Боспора.
1355
У Ибн Фадлана есть сведения о кочевьях печенегов, живущих среди узов, подкрепляющие информацию Константина. Ибн Фадлан отметил бедность и неустроенность этих оторвавшихся от своих соплеменников печенежских племен (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… – С. 130).
1356
Аспрон означает в переводе с греч. «Белая» и идентифицируется с Белгородом Днестровским
1357
Тюркское название – Тун-катай, то есть «Мирная крепость».
1358
Карак-катай, то есть «Сторожевая крепость».
1359
Салма-катай, то есть «Патрульная крепость».
1360
Сака-катай, то есть «Крепость на сваях».
1361
Иайу-катай, то есть «Военная крепость».
1362
Константин выделяет среди восьми печенежских племен, переселившихся в южнорусские степи, три племени под названием «кангар». Их названия соответствуют характеристике кангаров как «мужественных и благородных». Это племена «отли- чающихся заслугами», «голубого чура» и «йула цвета древесной коры». Два последних племени имели, как видно из их названий, должностных лиц весьма высокого достоинства («чур» и «гила» – ранг судьи).
1363
Глава посвящена «географии», а точнее итинерарию – описанию важнейшего пути от Фессалоники до Дуная и затем по Северному Причерноморью вплоть до Кавказского побережья Черного моря, а также истории хазарской крепости Саркел и обстоятельствам, в силу которых были приняты меры по укреплению Херсона как центра византийского провинциального округа. Если итинерарий датируется временем после 906 г., то сведения о пути из Фессалоники в Белград могли относится ко времени после смерти болгарского царя Симеона в 927 г. и изменения характера византийско-болгарских отношений, когда путь из Фессалоники к Белграду стал безопасным (Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. – London, 1962. – Vol. 2. – P. 153–154).
1364
Слав. Солунь, совр. Салонки, город и порт в Северной Греции, на юге Македонии. Основан в 316 / 315 г. до н.э.; после 146 г. н.э. центр римской провинции; уже в раннехристианское время центр митрополии, в византийский период второй по значению после Константинополя город Империи, крупнейший административный, ремесленный, торговый, ярмарочный и религиозно-культурный центр Средиземноморья (Tafrali О. Topographie de Thessalonique. – Paris, 1913; Bakalopoulos A. E. Istoria tes Thessalonikes. 315 p. Ch. – 1912. – Thessalonike, 1947; Браунинг P. Византийская Фессалоника: уникальный город? // ГЕННАДІОС; К 70-летию акад. Г. Г. Литаврина. – M., – С. 23–28). Из него шел путь к Дунаю через Сердику (совр. София) или Филиппополь (совр. Пловдив). He случайно поэтому описываемое здесь путешествие начинается не от Константинополя, а от торгового центра – Фессалоники, что может указывать и на источник информации для Константина
1365
Кастрон со славянским названием Белеград это бывший римский укрепленный город Сингидун, совр. Белград.
1366
Так византийцы называли в X в. Венгрию. Применяя этникон «турки» по от- ношению к мадьярам (венграм, уграм), они следовали литературной традиции, начало которой было положено в речи Арефы и развито в «Тактике» Льва VI Мудрого (состав- лена после 904 г., но до 912 г. и воспроизводила в ряде случаев текст военного тракта- та – «Стратегикона» Маврикия рубежа VI–VII вв.). Исходя из своих знаний военной организации и тактики конного народа – мадьяр, Лев Мудрый сравнил то, что ему было известно, с описанием тюрок (их самоназванием было «кёктюрк») у Маврикия, нашел эти описания в основном соответствующими его сведениям о мадьярах и пере- нес данные Маврикия, модифицировав их, на мадьяр, обозначив их также этниконом «турки» (Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. – Budapest, 1958. – S. 13–17).
1367
Страна печенегов (cm.: гл.1, 37)
1369
Территория восточнославянского государства Русь, «росская земля».
1370
Залив Черного моря, в древности называвшийся Каркенитским (между северо-западным побережьем Крыма и устъем Днепра) (Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. – M., 1980. – С. 110, komm. 256).
1371
…дo Херсона ѳместе с Боспором, В которых [находятся] крепости климатоѳ – kai Chersonos omou kai Bosporou, en ois ta kastra ton klimaton (cm.: гл.1). Очевидно, Константин имел в виду кастра, находившиеся в областях – климата Херсона и Боспора. Ниже в главе он уточняет, что эти климата располагались «от Херсоно до Боспора» (аро de Chersonos mechri Bosporou). Объединение в заголовке двух крупнейших городов Таврики подчеркивает, что оба они, наравне с кастра климата, являлись в это время ромейскими владениями и, значит, Византия вновь, после непродолжительного «коллапса» 50–60-х гг IX в, расширила на крымской земле границы своего здешнего анклава.
1372
Меотида – Античное название Азовского моря
1373
Город на восточном берегу Керченского пролива, против Боспора (античная Гермонасса). В хазарских документах (на древнееврейском языке) фигурирует Самкерц, вероятно, идентичный Тмутаракани (Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. – Л., 1932. – С. 102, 106–107, 118; Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. – Ithaca; London, 1982. – P. 128, 137) и хазарской крепости Самкуш (Ноѳосельцеѳ А. 77. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т, Черепнин J1. В., Шушарин В. П» Щапов Я. 77. Древнерусское государство и его международное значение. – M., 1965. – С. 385). В памятниках X в. («до- кумент Шехтера» о событиях времени правления Романа I Лакапина или более раннего времени, письмо хазарского царя Иосифа конца 950-х гг.) Самкерц – Самкуш – Тму-таракань предстает как хазарская крепость (Коковцов 77. К. Указ. соч. – С. 102; Golb N.. Pritsak О. Op. cit. – P. 114–119), но Константин умалчивает об этом, возможно, потому, что в то время, когда составлялся трактат, город не подчинялся ни хазарам, ни Руси.
1374
Объединение адыгов на восточном побережье Черного моря (см.: гл.6).
1375
В гл. 42 сказано, что Папагия расположена «выше» (то есть северо-восточнее) Зихии. Очевидно, речь идет о еще одной группе адыгских племен.
1376
Видимо, самое восточное объединение адыгских племен. Касаки (кашаки) (в русской летописи – касоги) известны и по арабским памятникам X в. (Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. – М., 1963. – С. 206–207), но там это название имеет собирательное название для всех адыгов.
1377
Земли алан находились на Северном Кавказе и восточнее Дона (см.: гл. 10).
1378
Абхазское царство (эриставство) в X в. – политическое объединение, возникшее, по данным средневековых грузинских источников, в 80-х гг. VIII в. или между 786 и 797 гг. после освобождения от византийской власти с помощью хазар (Абхазия и Абхазы средневековых грузинских повествовательных источников. – Тбилиси, 1988. – С. 56–57, 127–128; Анчабадзе 3. В. Из истории средневековой Абхазии. – Сухуми, 1959; С. 56–57, Гунба М. Абхазия в первом тысячелетии н.э. – Сухуми, 1989. – С. 213–218). Эристав Леон II приходился внуком хагану хазар. Первоначально эриставство охватывало территории, преимущественно населенные абхазами, но в IX в. центр царства был перенесен в Западную Грузию, после чего оно стало, по сути дела, западногрузинским государством, игравшим важную роль в истории Грузии. Слово Авасгия имеет здесь двойной смысл: как обозначение северной области Абхазского царства и как само государство в целом.
1379
Обычно отождествляется с античным восточно-черноморским городом Питиунтом (совр. Пицунда). В этом случае приходится признать, что Авасгия (в узком смысле) в X в. не охватывала всей этнической территории абхазов либо идентефика-ция предпринята неверно.
1380
…а с отдыхом – alla meta anapauseos («с перерывами», «паузами»).
1381
…по ту сторону – perathen.
1382
…в земле Mopaeuu – eis ten tes Morabias gen. Tax называлось государство западных славян в бассейне Среднего Дуная, возникшее в конце VIII – начале IX вв. и достигшее расцвета в 60–80-х гг. IX в. В начале X в. Великоморавская держава погибла, будучи завоевана венграми, передвинувшимися из Северо-Западного Причерноморья. Представления о локализации моравских земель были получены, скорее всего, от представителей мадьяр (в 927–934 гг. от побывавшего у венгров посла Гавриила и ок. 948 г. при дворе в Константинополе от венгерских вождей). В трактате Константина (гл. 13 и 40) Моравия помещается западнее «Сермия» на Саве (совр. Сремска Митровица), «на расстоянии двух дней пути от Белеграда», то есть южнее областей первоначального расселения венгров в междуречье Дуная и Тисы и в Задунавье (южнее Дравы) (см.: Константин Багрянородный. 06 управлении… – Гл.13. 1–8, с.52–53; гл.40. 31–34, с.164–165; гл.41, с.168–169).
1383
Болгарский город Дистра – античный Доростол (совр. Силистра). В первой половине X в. была пограничным опорным пунктом Болгарии на пути вторжения пече- негов на Балканы (Мутафчиеѳ П. Избрани произведения. – София, 1973. – Т. 2. – С. 50; ср.: Вагпеа I., Stefanescu St. Din istoria Dobrogei. – Bucuresti, 1971. – Vol. 3. – P. 27–31).
1384
O расположении Печенегии относительно Болгарии см.; гл. 8.
1385
…В которой стоят триста таксеотов – en о taxeotai kathezontai triakosioi («в которой держат триста таксеотов»), Таксеотами или таксатами византийцы называли наемных воинов регулярной службы, которые несли службу в гарнизонах крепостей и на границах фем (Gregoriou–Ioannidou М. Parakme kai ptose tou thematikou thesmou. Symbolesten exelixe tes dioiketikes kai stratiotikes doganoses tou Buzantiou apo to 10 ai. k. e. – Thessaloniki, 1985). Вероятно, «таксеоты», охранявшие Саркел, были из числа так называемых арсиев (ларсиев) – хорошо вооруженных воинов-наемников, тюрокмусульман, входивших в число постоянного хазарского войска, содержавшегося на жалованьи (по словам Ибн Русте (начало X в.), это войско сотавляло 10 тыс. конницы, Ибн Фадлан (начало 920-х гг.) говорит о 12 тыс., а ал-Масуди (30–40-е гг. X в.) – о 7 тыс. конных стрелков) (см.: Сообщения еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1874. – С. 136; Михеев В. К., Тортика А. А. Историческая география Хазарского каганата и экологически возможная численность населения кочевых хазар (середина VII – середина X вв.) // Вiсник Мiжнародного Соломонового унiверситету. – 2000. – Юдаiка. – № 3. – С. 157; ср.: Бережанский В. Г. Военное дело Хазарского каганата // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы международ. науч. конф. – Харьков, 2001. – С. 87; Бубенок О. Б., Радивилов Д. А. Народ ал-арсийа в Хазарии // Хазарский альманах. – К.; Харьков; М., 2003. – Т. 2. – С. 5–18).
1386
…сменяемых ежегодно – kata chronon enallassomenoi (дословно – «по времени очередно»). Подобный сменный гарнизон хазарские власти держали также в Дербенте (Артамонов М. И. История хазар. – Л., 1962. – С. 216–217).
1387
«Белый дом» – «aspron ospition» (дословно – «Белый приют»). Термином ospition византийцы называли гостиницы, постоялые дворы, которые давали приют путникам, бездомным и где, случалось, лечили заболевших (Сорочан С. Б. Византия IV–IX веков: этюды рынка. – Харьков, 1998. – С. 210). «У них» (de para autois), то есть у хазар, название Саркел действительно переводилось как «Белый дом» (cap / шар – «белый», кел / гил – «дом»); последнее слово иранского корня (см.: Bartholomae Ch. Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten // Sitzungberichte der Heidelberger Academie der Wissenschaften. Phil.– Hist. Klasse. – 1920. – Bd.ll. – Abh.2. – S. 22). «Белый приют (постоялый двор)» действительно соответствует тюркскому значению «белый» или «желтый» дом (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 105; Minorsky V. Hudud al-Alam. – P. 452–454; Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. – Princeton, 1954. – P. 186). В древнерусском языке этот смысл, кроме «цветового», в названии укрепления не присутствовал – Белая Вежа – «белая башня», «белая крепость».
1388
Военный сан (lamprois axiomasi), согласно Тактикону 899 г., промежуточный между 1 классом (патрикии, стратиги фем, протоспафарии) и 3 классом санов (спафарии, клисурархи, турмархи, топотириты схол). Ко второму классу санов относились также пресвитеры и игумены.
1389
…просили – aitesamenon. Следует принять во внимание, что слово aitesis означает не только «просьба», но и «требование», «домогательство» (с оттенком настойчивости, а не милостыни, как у Продолжателя Феофана – «просили и молили»). Похоже, Феофил находился в такой ситуации, когда ему было трудно отказать притязаниям хазар.
1390
.. построить – to ktisthenai(«создать», «основать»).
1391
В первой трети IX в. во главе хазарского государства стоял хаган, но функции его постепенно все более ограничивались пехом (титул тюркского происхождения, ср. «бек»). В X в. бывший «первый советник» хагана заправлял почти всеми делами и звался «малик» – царь (подр. см.: Продолжатель Феофана. III. 28; Цукерман К. О происхождении двоевластия у хазар… – С. 521–527).
1392
В. Тредголд весьма убедительно обосновывает датировку этого посольства летом 839 г. (см.: Treadgold W. The Byzantine Revival 780–842. – Standford, 1988. – P. 313).
1393
В греческом тексте – etesanto вместо aitesamenon.
1394
Вновь использован глагол ktisthenai со значением «основать», «создать», но не «построить». Очевидно, хазарские властители и не рассчитывали на то, что ромеи воздвигнут кастрон от начала и до конца. Речь шла прежде всего об основании Саркела, о помощи в его проектировке и в организации строительных работ, которые хазары могли бы завершить своими силами.
1395
…склоняясь к их просьбе – te touton aitesei peistheis («этой просьбе повинуясь»). В пер. Х.-Ф. Байера: «услышав их просьбу» (Байер Х.-Ф. История крымских готов… – С. 99).
1396
…с хеландиями из царских судов – meta chelandion basilikon ploimon. Речь идет о парусно-весельных судах, входивших в состав императорского флота, из числа тех, что базировались в Константинополе. Продолжатель Феофана (III. 28) называет их «длинными судами» (см. выше).
1397
В отличие от Продолжателя Феофана, Константин указывает на наличие в составе флотилии Петроны не катепана – главы войска и флота Пафлагонии, базировавшегося в Амастриде, а судов катепана, то есть хеландий, взятых из фемного флота Пафлагонии (chelandia tou katepano Paphlagonias). Едва ли самому катепану пришлось отправляться в Херсон ради миссии, порученной Петроне Каматру, и он невольно оказался «задействованным в ней лично», вероятно, вследствие небрежности редакторов или переписчиков Продолжателя Феофана, пропустивших еще одно слово «хеландии», значившееся в первоисточнике.
1398
В греческом тексте – kamatera karabia. В пер. Х.-Ф. Байера: «утомительные корабли» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 99). Вероятно, так назывались не просто транспортные, а гребные суда небольшой осадки, которые отличались от прочих парусных «круглых», то есть тихоходных грузовых судов (strongyla ploia), упомянутых Продолжателем Феофана (см.: III. 28). К. Цукерман обратил внимание на буквальный смысл прилагательного kamateros – «изнурительный», «утомительный», что, по мнению исследователя, может служить указанием на использование судов, которые двигались вверх по Дону на веслах (Цукерман К. К вопросу о ранней истории фемы Херсона // БИАС – Симферополь, 1997. – Вып. 1. – С. 315). Если это так, тогда после слов «в Херсоне» должна следовать точка. Новое предложение сообщает об очередной пересадке людей, организованной спафарокандидатом Петроной по достижении устья Дона. Упоминание же о плавании на «круглых судах» оказалось на сей раз опущено составителем или редактором 42 главы, который не придал значения тому (или не понял), что первоисточник сообщал об использовании экспедицией двух видов кораблей.
1399
Античное название реки Дон, распространенное в Византии. Ср. пер. Х.-Ф. Байера: «…отправился в местность реки Дона» (Байер Х.-Ф. Байер. Указ. соч. – С. 99).
1401
…обжегиіи В них кирпич – kai bessalon en autois egkausas. B пер. Х.-Ф. Байера: «… oh, создав некие печи и сжигавши кирпич(и) (bessalon) в них» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 99). Хлопотная необходимость постройки печей для обжига многих тысяч кирпичей указывает на то, что Петрона не волен был выбирать место для строительства крепости по своему разумению, в зависимости от близости к разработкам подходящего камня, хотя поблизости такие месторождения, судя по Правобережной Цимлянской и Камышевской крепостям, были (см.: Флеров В. С. Крепости Хазарии в долине Нижнего Дона. – С. 159–161, рис.1). Следовательно, строительная площадка была заранее указана хаганом весьма определенно и для этого должны были быть веские соображения, с которыми византийцы согласились.
1402
…изготовив известь – asbeston ergasamenos. Византийские общественные постройки возводились на хорошем известковом растворе, нередко из пережженного мрамора, хотя в частном строительстве в «темные века» господствовала кладка на земляном растворе, глине. Примечательно, что в Херсоне первая достоверно известная общественная постойка без использования известкового раствора появилась не ранее конца IX в. и ею стал комплекс претория с базиликой (Соро- чан С. Б. 06 архитектурном комплексе византийского претория в Херсоне // Россия – Крым – Балканы: диалог культур: Науч. докл. международ. конф. – Екатеринбург, 2004. – С. 201).
1403
Ср. пер. Х.-Ф. Байера: «…из неких маленьких раковин (kochlidion) из реки известняк (asbeston) производив» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 99).
1404
…после постройки – meta to ktisai (другой вариант перевода – «после основания»).
1405
…самовластно – kyrios. Это слово Я. Н. Любарский предлагает переводить как «полновластно», но оно имеет и значение «законно, справедливо», которое тоже подходит по смыслу (ср.: Theophanus Continuatus… – Bonnae, 1838. –. P. 123; Продолжатель Феофана. Жизнеописания… – С. 56).
1406
…и местностями ѳ нем – kai tous en aute topous. У Продолжателя Феофана: «…сей землей» (III. 28). Под «местностями» следует понимать упомянутые Константином области-климата со своими крепостями, которые находились за Перекопом между Боспром и Херсоном и принадлежали последнему. Пер. Х.-Ф. Байера неверно изображает Херсон независимым от Империи: «Если хочешь вообще овладеть крепостью Херсона (to tes Chersonos kastron) и местностями в нем» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 102).
1407
…и не упустить их из своих рук – mе tes ses ektos genesthai cheiros. B варианте Х.-Ф. Байера: «…и не желаешь, чтобы они избежали твоей руки» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 102).
1408
…избери собственного стратига – proballou strategon idion. Ср.: «…назначай собственного стратига» (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 102).
1409
…и не доверяй их протевонам и архонтам – kai me tois ekeinon katapisteuses pro- teuousi te kai archousi. Cp.: Продолжатель Феофана. III. 28 («…их правителям и протевонам»); Х.-Ф. Байер: «…и не доверяйся первенствующим и начальникам у них» (с.102). Указание на правителей, властей во множественном числе, вероятно, объяснимо включением в состав здешней архонтии «местностей», областей-климата, со своими «начальствующими».
1410
Ведь до василевса Феофипа не бывало стратига, посылаемого [туда] из этих мест – Mechri gar Theophilou tou basileos ouk en strategos apo ton enteuthen apostellomenos. Наречие enteuthen переводится как «откуда», но когда речь идет о времени оно может иметь значение «с тех пор», «с того времени», а когда о причине – «поэтому». Отсюда можно предложить следующий вариант перевода: «…до василевса Феофила не было стратига, посылаемого с того времени».
1411
…но управителем всего являлся – all en о ta panta dioikon («но управление всем»). Пер. Я. Н. Любарским аналогичного места у Продолжателя Феофана: «…всем заправлял».
1412
…так назыѳаемый протеѳон с так называемыми отцами города – о legomenos proteuon meta kai ton eponomazomenon pateron tes poleos («так называемый протевон c теми, кого зовут отцами города»). У Продолжателя Феофана оговорка «так называемый» использована только один раз применительно к «первенствующему», но опуще- на перед «отцами города», что, видимо, явилось следствием редакторской работы (ср.: Антология: III. 28).
1413
…того или этого поспать в качестве стратига – ton о deina exaposteilai strategon е ton о deina («того отправить стратигом или другого»).
1414
…приобретшего знание местности – empeira tou topou («узнавшего на опыте местности»). У Продолжателя Феофана: «поскольку тот знаком был с местом» (пер. Я. Н. Любарского).
1415
…и понимания den отнюдь не лишенного – kai ton pragmaton ouk anepistemona («и в делах не несведущего»). В тексте Продолжателя Феофана этого нет.
1416
…избрал стратигом – proebaleto strategon («выдвинул стратигом» или «предложил стратигом»).
1417
…почтив [чином] протоспафария – («почтив – дословно «оценив» – протоспафарием»)
1418
…повепев – orisas («ограничив»).
1419
…тогдашнему протевону и всем [прочим] повиноваться ему – ton tote proteuonta kai pantas ypeikein auto («тогдашнего протевона и всех подчинением ему»).
1420
В греческом тексте – ex ou kai mechri ten semeron epekratesen apo ton enteuthen eis Chersona proballesthai strategous («с той поры до сего дня стало обычным поэтому в Херсон избирать стратигов»). Следовательно, нет оснований для того, чтобы видеть в этом предложении еще одно свидетельство «об особом статусе Херсонесской фемы в это время», а именно, приписывать Константину указание на избрание стратига из жителей «этих мест», то есть Херсона (ср.: Константин Багрянородный. 06 управлении… – С. 403, komm.35 к гл.42). В данном случае наречие enteuthen подано в причинном значении.
1421
…совершилось строительство – ktisis kathesteken («основание поставлено»).
1422
Константин имеет в виду odos emeron – пешие переходы, каждый протяженностью около 37 км, так что в итоге получается цифра в 2220 км (1410 византийских миль).
1423
Константин имеет в виду odos emeron – пешие переходы, каждый протяженностью около 37 км, так что в итоге получается цифра в 2220 км (1410 византийских миль).
1424
Так византийцы обычно называли р. Кубань, но не исключено, что здесь имеется в виду другая река бассейна Буга и Днепра
1425
Вероятно, Южный Буг.
1426
Примечательно, что Константин не считает низовья Днепра росскими землями.
1427
Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона – Е de Patzinakia pasan ten gen [mechri] tes te Rosias kai Bosporou katakratei kai mechri Chersonos. Без предлагаемой конъектуры mechri («до») строка выглядит следующим образом: «Пачинакия всю землю Росии и Боспора осилила (победила, одержала верх) и до Херсона». Здесь есть как-будто намек, что в отличии от земли Росии и Боспора, земля Херсона не находилась под печенегами.
1428
Г. Моравчик идентефицирует эти реки с Сиретом и Прутом.
1429
He ясно, что Константин имеет в виду под «тридцатью краями» или «областями» (тегоп).
1430
Принимаем, как и Р. Дженкинз, конъектуру Danastreos вместо Danapreos
1431
В X в. употреблялись византийская (1574 м 16 см) и римская (1480, 5 м) мили (Shilbach E. Byzantinische Metrologie. – München, 1970. – S. 32–36).
1432
«Так называемый золотой морской берег» (о chrysos legomenos aigialos). Другие случаи подобного обоэначения побережья между устьями Днестра и Днепра неизвестны.
1433
Идентификация проблематична.
1435
…болота и бухты – limnai kai limenes («озера и бухты»), под «болотами-озерами» можно понимать прежде всего Сиваш.
1436
…в которых херсониты добывают солъ – en ois оі Chersonitai to alas ergazontai. Речь идет о добыче соли не только в ближайших к городу соляных озерах, которых здесь было около десятка, но и об источниках соли, которые находились гораздо дальше по побережью, по крайней мере в районе Сиваша (ср.: Белов Г. Д. К вопросу изучения экономики Херсонеса эллинистического периода // Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпоху. – M., 1959.–С. 179; Кадеев В. И. История и археология Причерноморья. Статьи разных лет. – Харьков, 2000. – С. 57,61). Видимо, не стоит преувеличивать трудности ее доставки, учитывая, что она осуществлялась морем.
1437
От Херсона до Боспора расположены крепости климатов – Аро de Chersonos mechri Bosporou eisin ta kastra ton klimaton. Eisin – «внутри». Под кастра могут пониматься крепостные сооружения в областях-климата Таврики на пространстве от Херсона до Боспора – в долине реки Черной (в нижнем и среднем течении), в Бельбекской, Качинской и Альминской долинах, в юго-западной части Второй (Внутренней) гряды Крымских гор , в районах Ласпи, Фороса, Симеиза, Алупки, Биюк-Исар, Кучук-Исар, на горах Крестовой (в Верхней Ореанде), Аю-Даг, Ай-Тодор, Каракули-Кая, в Горзувитах (Гурзуф), Алустоне (Алушта), Ай-Йори (св. Георгий), в районе Сугдеи (Судак), Феодосии и др. Только в Юго-Западном Крыму насчитывается около четырех десятков крепостей и иных укреплений и примерно столько же на Южном берегу Крыма, многие из которых уже существовали в VIII–X вв. (см.: Домбровский О. И. Средневековые поселения и «исары» крымского Южнобережья // Феодальная Таврика. – К., 1974. – С. 5–56, рис. 25; Фирсов Л. В. Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма. – Новосибирск, 1990; Мыц В. Л. Укрепления Таврики X–XV вв. – К., 1991. – С. 124–153, рис.1).
1438
По прямой это расстояние ближе к 300 римским милям, а вдоль берега – к 300 византийским милям.
1439
…устье Меотидского озера – to tes Maiotidos limnes stomion.
1440
…Меотидское море – Maiotida Thalassan.
1441
Танаис, Харакул и иные (см. ниже).
1442
Черная Булгария (Mauren Boulgarian) известна также по Повести временных лет: согласно договору Игоря 944 г. с Византией, князь русов обязывался защищать «Корсунскую страну» (округ Херсона) от черных булгар, нападавших из Приазовья. Локализация спорна: область Кубани (Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» и «О народах». – М., 1899. – С. 76; Зпатарски В. История на Бъларската держава през средните векове. – София, 1967. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 114) или, что более ве- роятно, междуречье Днепра и Дона (Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. – Cambridge, Mass., 1936. – P. 101).
1443
B рукописи – Surian («Сирию»). A. A. Куник предлагал конъектуру: Zichian («Зихию»). М. В. Левченко, Х.-Ф. Байер придерживаются чтения рукописи (Левченко M. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. – M., 1956. – С. 191–192; Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 102,135). Принимаем конъектуру Томашека: Mordian (см. гл. 37). Следует подчеркнуть, что в тексте не содержится указание на проникновение русов в Меотидское море по Дону (о Tanais), который, как сказано ниже, лежал к востоку (а не к северу) от Меотиды. Днепр (о Danapris) служит лишь отправным ориентиром для живущих к западу от Черной Булгарии и Хазарии. Поэтому Х.-Ф. Байер неправ, когда полагает, что составитель смешал Днепр с Доном и что русы появлялись в устье обоих рек (Байер Х.-Ф. Указ. соч. – С. 102)
1444
…канал – souda («ров»). Еще Геродот (IV. 3) сообщал о рве, тянувшемся от Таврских гор до Меотийского озера, вырытом потомками ослепленных скифских рабов. По мнению одних, свидетельство достоверно; на взгляд других, под словом «ров» («канал») скрывается название Перекопского перешейка (Доватур А. И., Каппистоѳ Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. – М., 1982. – С. 204–205). В этом случае, Константин очень точно определил ориентир, от которого на севере начинались крымские области-климата с их кастра.
1445
…всю земпю Херсона и климатов и земпю Боспора – pasan ten Chersonos gen kai ton klimaton kai tes Bosporou gen.
1446
Следовательно, две земли (Херсона и Боспора) и области-климата находились к югу от «болот-озер» Сиваша и заросшего лесом Перекопа. Свыше 1000 миль, очевидно, общее расстояние от Днепра до южной оконечности Крыма.
1447
…dea nymu – duo odoi.
1448
…no которым пачинакиты проходят к Херсону, Боспору и климатам – en ais оі Patzinakitai dierchontai pros te Chersona kai Bosporon kai ta klimata.
1449
Точной идентификации нет.
1450
Вид рыбы, экспортировавшийся через Таврику и считавшийся у ромеев деликатесом (Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. – Berlin, 1958. – Bd.2. – S. 89).
1451
Названия рек не идентифицированы.
1452
…пролив no названию Вурлик – stomion to Bourlik eponomazomenon. По смыслу текста речь идет о современном Керченском проливе (в древности Боспор Киммерийский). Название «Вурлик» в других источниках не встречается.
1453
…на пропиве стоит Боспор – en о estin е Bosporos («на нем Боспор»).
1454
Таматарха – городище трапецевидной формы, площадью 300 х 200 м, с толщиной культурного слоя более 10 м, ограничено глубокими оврагами и высохшим соленым озером или бывшим заливом. Наследница греческой колонии (античный город Гермонасса), которая с VI в. до н. э. существовала на восточном берегу Керченского пролива, на мысу Таманского полуострова, что лежит против Боспора. Собственно, по-гречески ta Matarcha (Матарха, иногда – Матраха). Хазары называли ее Матлука, a русы – Тмутаракань. В VI–VII вв. эта территория входила в состав Византии, а в дальнейшем, возможно, приобрела кондоминатный ромейско-хазарский статус. ВIX–X вв. это крупный, густозаселенный международный порт, в котором жили греки, евреи, армяне, хазары и другие народы. Кварталы застраивались примерно каждые 20 лет с заменой уличного мощения. Возможно, идентичен Самкерцу, упоминаемому в еврейско- хазарских документах середины X в. (см.: Антология). Город был захвачен русами в 964–965 гг., видимо, во время походов киевского князя Святослава на кавказские племена ясов и касогов. После этого Тмутаракань становится древнерусским военно- торговым форпостом. Князь Владимир посадил здесь княжить своего сына Мстислава Храброго. С 1117 г. город, превратившийся в крупный ярмарочный центр, контролировали половцы. В 1127 г. Русь под давлением половцев окончательно оставила Тмутаракань. К концу XII столетия упоминания о ней навсегда исчезают со страниц русских летописей. Эти земли вновь стала контролировать Византия. В 1223 г. город был разрушен татаро-монголами, затем заново отстроен и под названием Матрика включен в состав Золотой Орды. Свое значение порт Матрики сохранял и в генуэзское время, когда он стал называться Матрега (См.: Плетнева C. А. Хазары. – M., 1986. – С. 52–53; Мавродин В. В. Тмутаракань // Вопросы истории. – 1980. – № 11. – С. 177–182).
1455
От 26, 7 до 28, 4 км.
1457
По смыслу – Кубань, хотя другие источники ее так не называют. В письме хазарского царя Иосифа фигугирует похожая по названию река У-г-ру, которую некоторые исследователи отождествляют с Манычем (см.: Антология; Muxeee В. К., Тортика A. А. Историческая география Хазарского каганата… – С. 162–163).
1458
Возможно, р. Нечепсухо к северу от Туапсе. В раннем средневековье этот район имел важное военно-стратегическое значение. He случайно там имелся кастрон Ни- копсис, за которым начиналась Зихия. Некоторые исследователи локализуют Никопсис между современной Гагрой и Адлером (Воронов Ю. H. К локализации Никопсии // XV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: Тезисы докладов. – Махачкала, 1988. – С. 72–73). Это был центр автокефальной Зихийской епархии, включавшей до третьей четверти IX в. и самые значительные кафедры Таврики (Херсон, Боспор, Сугдею) (см.; Darrouzes ]. A. A. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopoli- tanae. – Paris, 1981. – Notitiae 1, № 64, p. 31, note 3; p.206; Notitiae 2, № 68, p.218; Notitiae 3, № 84, p.232; Notitiae 4, № 69, p.46–48, 266; Науменко B. E. K вопросу o церковно- административном устройстве Таврики в VIII–IX вв. (по данным Notitiae Episcopatuum) // АДСВ. – Екатеринбург, 2003. – Віп.34. – С. 123–145).
1459
Anothen – дословно «сверху, в верхней части, вверху», то есть дальше к северо- востоку
1460
Горы Кавказа (ore ta Kaukasia). Здесь явно имеется в виду центральный Кавказский хребет, за которым (к северу) начинались владения аланов.
1461
Острова не идентифицированы.
1462
Неясно, какие бухты или заливы имеются в виду
1463
Ю. Н. Вороновым было предложено следующее истолкование свидетельств гл. 42 о Зихии и Авасгии. Если исходить из того, что 1 римская миля равна 1481, 5 м, то протяженность Зихии, находящейся по Константину, между реками Укрух и Никопсис, составляет 445 км, а Авасгии – тоже 445 км, то есть общая их протяженность оказы- вается чуть больше, чем расстояние от Анапы до Трапезунда (около 800 км). Таким образом, Никопсия должна находится между современной Гагрой и Адлером, а Сотириуполь – не в секторе Сухуми – Пицунда (как считали Ю. Кулаковский, 3. Анчабадзе и др.), а в районе Трапезунда. Тем самым границы Авасгии в первой половине X в., по Константину, простирались вплоть до Трапезунда. Никопсия предположительно отождествляется с городом Нафсай, известным по «Житию Або Тбилели», локализуемым в районе современного Гантиади (Цандрипш). См.: Воронов Ю. H. К локализации Никопсии. – С. 72–73
1464
Повествование о крепости Херсон – Istoria peri tou kastrou Chersonos. Глава включает четыре, no сути дела, самостоятельных и блока материалов, подобранных для Константина: о херсонитах как союзниках (symmachias) римских императоров в конце III – второй трети IV вв. н.э. и их борьбе с боспоскими царями (этот блок в свою очередь подразделяется на четыре сюжета); о подвиге знатной херсонитки Гикии, разоблачившей заговор боспорского царя Асандра против ее родного города во второй половине I в. до н.э.; об источниках нефти, необходимой для изготовления «жидкого огня»; о мерах правительственного воздействия на херсонитов в случае их сопротивления царским повелениям.
1465
…восстанут – ei antarosi («поднимутся, будут сопротивляться»), У Н. Протопопова, одного из первых переводчиков главы: «…в случае возмущения» (Протопопов Н. История города Херсона. Сочинение императора Константина Порфирородного // ЗООИД. – 1848. – Т. 2. – С. 138). Ближайший по времени случай такого выступления зафиксировал Продолжатель Феофана, когда сообщил об убийстве херсонитами стратига Симеона, сына Ионы, происшедшее в 896 г. (Theophanes Continuatus… – Bonnae, – P. 360. 14–18). Впрочем, вероятно, осталась также память об активном уча- стии херсонитов в ниспровержении Юстиниана II в 711 г. и представление иконоду- лов о «лживом во всем» населении Херсона, которое «чуждо какого-бы то ни было подчинения» (Praxeis kai periodoi tou agiou kai paneuphemou Apostolou Andreu egkomio sympeplegmenai // AB. – 1894. – T.13. – Fasc.3–4. – P. 334, § 30; Петровский C. B. Anoкрифические сказания об Апостольской проповеди no Черноморскому побережью // ЗООИД. – 1898. – Т. 21. – С. 149).
1466
…или замыслят совершить противное царским повелениям – е enentia ton basilikon keleuseon boulethosi diaprazasthai(«npoTMB царского увещания намеряться дей- ствовать»), Греч. выражение keleusis – дословно «увещание, призыв, обращение» – имеет в стиле византийской канцелярии специальный смысл: оно обычно прилагалось к вассалам (Шестаков С. П. Очерки по истории Херсонеса… – С. 77).
1467
…сколько ни найдется херсонских корабпей в столице – osa eurethosin en te polei Chersonitika karavia («все херсонские корабли, что могут быть найдены в полисе»). С VII–VIII вв. ромеи часто называли Константинополь просто «городом» (полисом), тогда как прочие провинциальные города именовали кастра (Каждан А. П., Шерри Jlu Ф» Ангелиди X. История византийской литературы. – СПб., 2002. – С. 31).
1468
…конфисковать вместе с их содержимым – meta tou gomou auton eiskomizesthai («вместе c грузом их ввезенным»).
1469
…а моряков и пассажиров-херсонитов – oi de nautai kai epibatai Chersonitai («навтов и эпиватов-херсонитов»). Понятие «навт» шире, нежели понятие «моряк». Навтами византийцы называли и команды кораблей и их капитанов-навклиров. Эпиваты были теми, кто эксплуатировал суда в качестве пассажиров. О том, что среди них были торговцы, свидетельствуют статьи Морского закона, называвшие виды товаров (ткани, одежды, драгоценности), которые везли некоторые из эпиватов (Морской закон: Вступ. ст., пер., коммент. М. Я. Сюзюмова // АДСВ. – Свердловск, 1969. – Вып. 6. – III. 34, 40). Как правило купцы, занимавшиеся морской торговлей, не были судовладельцами: согласно закону, навклир и эмпор выступают как два независимых лица, вступающих между собой в договорные отношения. В Чудесах иконы св. Марии Римской, отражающих время правления Василия I и последующих двух столетий, повествуется о таком торговце, который, желая нанять корабль для перевозки груза, направился в гавань и без труда нашел нужное ему судно (Dobschutz E. Maria Romaia // BZ. – 1903. – Bd.12. – S. 199). Перед началом плавания эпиват и хозяин корабля обговаривали все условия совместного предприятия и скрепляли их письменным соглашением – чартером, то есть морским договором между судовладельцем и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего судна или его части на определенный рейс или срок (Морской закон. – III. 20). В чартер включался вопрос о плате владельцу корабля и морякам-навтам
(Морской закон. – I. 1–6; Ecloga: Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V / Hrsg. v. L. Burgmann. – Frankfurt a M.,1983. –XL. 40), о сохранности груза экипажем корабля (Морской закон. – III. 38) и степени его ответственности за потерю груза (Морской закон. – II. 10), о сбрасывании имущества эпивата во время кораблекрушения, причем последний вопрос решался общим голосованием, предварительно, перед отплытием (Морской закон. – III. 9). Равным образом проверку корабля перед погрузкой осуществлял сам эмпор-купец, который не должен был грузить тяжелые вещи на ветхое судно (Морской закон. – III. 11). Разумеется, херсонские навты и эпиваты тоже действовали в рамках этих предписаний.
1470
1470 …связать – ina desmeuontai («там заключить в оковы», «там заковать»).
1471
…и заключить в работные дома – kai enapokleiontai eis ta ergaleia («ломать в эргалиях» – от enapoklao – «сламывать, ломать в чем-либо»). «Заключать во что-либо» или «запереть где-либо» – enapolambano. Следовательно, Константин здесь и ниже прибег к более резкому выражению, чем просто «заключить».
1472
Царских порученца (см.: гл. 7).
1473
Армениаки (Армениак) – одна из важнейших фем на крайнем северо-востоке Малоазийского полуострова, образованная при василевсе Ираклии (610–641) или несколько позже, в 667 г., из части Каппадокии, прилегавшей к морю. Главный центр – город Амасия. На востоке Армениак граничил с Халдией, в свою очередь примыкавшей к Трапезунду. Первоначально Халдия была турмой фемы Армениак, до тех пор пока при василевсе Феофиле в 837 г. (по другим версиям, в 824 г. или 863 г.) была преобразована в фему.
1474
Пафлагония была выделена в самостоятельную фему из состава северо-малоазийской фемы Вукеллариев в конце правления Феофила, около 837 г. Главный центр – Гангры. Крупнейшие портовые города – Амастрида (Амастра) и Синоп в 130 км от м. Керепме, откуда начинается краткий морской путь к южной оконечности Крымского полуострова. См.: Продолжатель Феофана. III. 28.
1475
Вукелларии – фема, созданная в 767 г. на севере Малой Азии. Главный город – Анкира (совр. Анкара).
1476
…чтобы захѳатить все суда херсонские – ina panta ta Chersonitika karabia krato- sin («там всеми херсонскими кораблями овладеть»).
1477
…конфисковать и груз, и корабли – kai ton men gomon kai ta karabia eiskomizosin («и конечно грузом, и кораблями пришедшими» – от eiskomozo – «вводить, ввозить, вносить»).
1478
…а людей связать – tous de anthropous desmeuosi («людей заключить в оковы»), Н. Протопопов первым перевел: «людей сковывают» (Протопопов Н. История города Херсона. – С. 138).
1479
…и запереть в государственные тюрьмы – kai enapokleiosin eis demosious phylakas («и ломать в государственных застенках»). Следует учесть, что phylake означает и действие стерегущего, и лицо стерегущее, и место, находящееся под стражей, или темницу. Ср.: Житие Иоанна Готского, гл.9 (выражение en de te phylake В. Г. Васильевский перевел не «в тюрьме», а «под стражей»). Примечательно, что применительно к приморским центрам южного берега Черного моря Константин упомянул государственную стражу или общественные тюрьмы, а не эргалии, поскольку, в отличии от столицы, государственных работных домов здесь, очевидно, не было.
1480
…и потом донести об этих делах, как их можно устроить – kai anagagosi peri touton, kai os an dexontai («и доложить об этом, и каким бы образом выжидать»). Смысл нескольких последних фраз не совсем ясен. Н. Протопопов упростил их, опустив уточнение: «…и потом обо всем доносят» (Протопопов Н. История города Херсона. – С. 138). С. П. Шестаков предложил следующий перевод этого места: «…и довести до сведения правительства о них и о том, как они будут вести себя» (Шестаков С. П.Очерки… – С. 77).
1481
Кроме того нужно, чтобы эти василики – pros toutois ina oi toioutoi basilikoi («кроме того там эти василиски»).
1482
…препятствовали – koluosi («задерживали»),
1483
…пафлагонским и вукелларийским кораблям и береговым суденышкам Понта – kai ta Paphlagonika kai Boukellarika ploia kai plagitika tou Pontou («пафлагонские и вукелларийские суда и боков Понта»), Константин использовал в данном случае наиболее распространенный термин, которым он сам и другие византийские авторы обычно обозначали морские суда – ploia, ploimon, ploion (Константин Багрянородный. Об управлении… – С. 38. 19; 108. 29; 126. 287; 138. 54; 252. 144; ср.: Морской закон. – III. 40; Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica / Ed. C. de Boor. – Lipsiae, 1880. – P. 35. 2; Theophanis Chronographia ex rec. I. Classeni. – Bonnae, 1839. – Vol. 1. – P. 567. 2; Византийская книга Эпарха. – М., 1962. – XVII. 3; Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano / Ed. Hipp. Delehaye // Acta Sanctorum Novembris Propylaeum. – Bruxelles, 1902. – Col. 864; Vita S. Euthymii. XIII // Byzantion. – 1957. – T.25–27. – P. 92. 34). Иногда к ним добавлялась дифиниция «торговые корабли» – emporeutika ploia (Genesius ex rec. C. Lachmanni. – Bonnae, 1834. – P. 49; Theophanes Continuatus… – P. 81 (II, 25); Продолжатель Феофана. Жизнеописания… – c. 38,197; Константин Багрянородный. Об управлении… – С. 140. 87; Symeon Magister // Theophanes Continuatus… – P. 623; Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I. Bekkero suppletus et emandatus. – Bonnae, 1839. – Vol. 2. – P. 95–97; Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII–XVIII / Rec. Th. Buttner-Wobst. – Bonnae, 1897. – Vol. 3. – P. 399 (XV, 24). Однако небольшие суда, лодки, «кораблики», которые могли идти и под парусом, и на веслах, имея минимальную «команду», часто из одного человека, называли ploiario, ploiarion mikron – по-латыни navicula (Житие Мартиниана // Сборник палестинской и сирийской агиологии. Вып. 1. Православный палестинский сборник. – СПб., 1907. – Вып. 57. – Т. 19. – Вып. 2. – С. 95 (sec.13 (7), с.101 (sec.19. 14–15, 19); Продолжатель Феофана. – С. 153 (VI, 24); Havlikova L. Slavic Schips in 5th–12th Centuries Byzantine Historiography // BS. – 1991. – T.52. – P. 102). Термин plagitika в значении «береговые суденышки», как предлагают читать переводчики главы, нигде больше не встречается. Поскольку он происходит от ta plagia, его будет правильнее интерпретировать как указание на бока, фланги, оконечности Понта. После пафлагонских и вукелларийских судов, направлявшихся в Херсон, Константин называет Понт – обширную приморскую область на северо-востоке Малой Азии, которая с запада граничила с Пафлагонией, а с востока – с Арменией. В нее входили и пафлагонская Синопа, и Амасия Армениаков, и Неокесария Халдии, и Трапезунд. Все они имели давние связи с Херсоном.
1484
…переплывать через море в Херсон – diaperan en Chersoni («переправляться в Херсон»)
1485
Показательно, что источник указывает на необходимость доставки в Херсон не только зерна, но и вина (sitou е oinou). Между тем, в середине – второй половине IX в. в ближайшей округе города еще действовали гончарные мастерские для массового производства амфор (Сорочан С. Б. «Carceris habitateris»? Положение Херсона во второй половине IX в. // БИ. – Симферополь, 2003. – Вып. 3. – С. 94–95). Следовательно, данные Константина могут служить косвенным подтверждением археологически зафиксированного наблюдения, что к 40-м гг. X в. винодельческие комплексы в Крыму прекратили существование вместе с исчезновением амфор крымского производства (Якобсон А. Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. – Л., 1979. – С. 72; Талис Д. Л. Материалы к экономической и социальной истории Юго-Западного Крыма (цитадель Баклинского городища) // АДСВ: Античный и средневековый город. – Свердловск, 1981. – С. 64–72). Это же обстоятельство определяет предел для деятельности многочисленных со второй половины VIII в. сельских гончарных мастерских, разбросанных преимущественно по побережью полуострова (Паршина Е. А., Тесленко И. Б., Зеленко С. М. Гончарные центры Таврики VIII–X вв. // Морська торгiвля в Пiвнiчному Причорноморi. – К., 2001. – С. 77). Видимо, в условиях печенежского прессинга выращивание сельхозкультур, винограда стало затруднительным, что потребовало в очередной раз перестройки экономики региона, перевода ее на рельсы посреднической торговли.
1486
…или с каким-либо иным продуктом – е oiasdepote chreias. Chreia означает не только «продукт», но и «чего-либо».
1487
…или с товаром – е pragmateias. Pragma действительно переводится как «вещь, предмет, припас, товар», но и «дело». В том же последнем значении находится pragmateia – «занятие, предприятие, работа, труд, забота». Следовательно, речь идет о судах, едущих по делам, с чем-либо необходимым, полезным (материального или предпринимательского свойства), на что в Херсоне есть нужда.
1488
…и стратиг должен приняться за дело – opheilei dexasthai kai о strategos («обязан действовать и стратиг»).
1489
…и отменить десять литр – tou kopsai kaitas deka litras («отменить и десять литр»). Из литра (фунта) чеканилось 72 золотых солида, каждый весом около 4 г.
1490
…выдаваемые – tas didomenas («предоставляемые, даруемые, отпускаемые»).
1491
…крепости Херсон из казны – аро tou demosiou eis to kastron Chersonos («из казны кастрону Херсону»), Из казны скорее всего выдавалась плата тем потомственным воинам-херсонитам, отцы которых получили эту привилегию со времен Константина I («Херсониты, получив это содержание, разделили его между собой и детьми учредили порядок. От того и в наше время их дети, пополнения в войске своих отцов, считаются в числе воинов» – Протопопов Н. История города Херсона. – С. 158). Применительно к суммам, выплачиваемым ромейским солдатам в IX–X вв., на эти деньги можно было бы содержать около 50 горожан-воинов – число, вполне достаточное для гарнизона города.
1492
…и две [литры] пакта – kaitas duo tou paktou. У H. Протопопова: «…и двумя сумму, получаемую городом по условию» (Протопопов Н. История города Херсона. – С. 139). В византийских документах X в. пактом обычно именовалась условленная плата за аренду земли. Применительно к Херсону это могло означать не только плату за воинскую помощь или за выполнение городом государственных поручений особого характера, но прежде всего деньги (144 номисмы), причитающиеся за аренду каких-то территорий, занятых имперскими военно-административными объектами (Oikonomides N. Le «systeme» administratif bzyantin en Crimee aux IXe–Xe s. // MАИЭТ. – 2000. – Вып. 7. – P. 322), может быть, укреплений так называемой «цитадели» в юго-восточном углу городища и ее претория (tou praitoriou), где размещалась резиденция стратига, а также судебное учреждение и тюрьма. Наличие претория для конца IX–XI вв. зафиксировано археологически и в строительной эпиграфической надписи, датируемой апрелем 1059 г. (см.: Антонова И. А. Административные здания херсонесской вексилляции и фемы Херсона // X. сб. – 1997. – Вып. 8. – С. 14–18, рис. 5; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. – Харьков, 2000. – С. 537–539, 716, № 31; Храпунов Н. И. Преторий в средневековом Херсоне // Археологiя та етнологiя Cxiдноi Свропи: матерiали i дослiдження. – Одеса, 2002. – Т. 3. – С. 148–149; Сорочан С. Б. Об архитектурном комплексе византийского претория… – С. 200–205).
1493
…а затем стратиг уйдет из Херсона – kai tenikauta anachoresai аро Chersonos ton strategon («и в то время отступит из Херсона стратиг»). Здесь под стратигом имеется в виду глава фемы и комендант кастрона Херсон.
1494
…отправится в другую крепость и обоснуется там – kai apelthein en etero kastro kai kathesthenai ekeise («пустится в другой кастрон и удерживает оный»). Из этих слов становится ясно, что к середине X в. стратиг Херсона осуществлял власть не над одним городом, а над рядом крымских кастра и в случае осложнения ситуации в «столице» фемы у него был выбор, куда переместить свой штаб (ср.: Oikonomides N. Le systeme»… – Р. 322–323). Видимо, таким местом могло стать укрепление на Монастырской скале в Инкермане, Эски-Кермен, Мангуп, Тепе-Кермен, Сюйрен, Чуфут-Кале или Бакла – наиболее значительные, с X в. начавшие застраиваться усадьбами кастра ближней и дальней округи (ср.: Сорочан С. Ю. Око и щит Империи. Херсон к концу правления Юстиниана I и при его ближайших преемниках // БИ. – Симферополь; Керчь, 2004. – Вып. 5. – С. 334–343).
1495
…что если херсониты не приезжают в Романию – oti ean ou taxideusosin oi Chersonitai eis Romanian («потому что, если не получают херсониты в Романии»). Н. Протопопов перевел: «Херсонцы, если бы не служили в Романии» (Протопопов Н. История города Херсона. – С. 139).
1496
…и не продают шкуры и воск, которые они покупают у пачинакитов – kai pipraskosi ta byrsaria kai ta keria («и не продают невыделанные кожи и воск, которые у пачинакитов приобретают»).
1497
…то не могут существовать – ou dynantai zesai («не могут жить»), Zao (буд. вр. – zeso) – «существовать, не угасать, иметь силу»).
1498
Oti ean me аро Amisou kai apo Paphlagonias kai ton Boukellarion kai apo ton plagion ton Armeniakon perasosi gennemata, ou dynantai zesai oi Chersonitai– «потому что, если не из Аминса и из Пафлагонии и Вукеллариев и из окраин Армениаков переходит взращенное, не могут жить xepcoниты. Gennemata (gennema) означает вообще все рожденное, плоды, любые творения, произведения, хотя несомненно, что здесь Константин имел в виду в первую очередь зерно и другие основные, жизненно важные продукты питания, которые доставлялись на южнопонтийских и херсонских судах в Херсон. Наряду с уже неоднократно упорминавшимися Пафлагонией и Вукеллариями в качестве основных контрагентов особо, первым назван Амине (Амис) – крупнейший портовый центр фемы Армениаков, в свою очеред связанный
важной сухопутной дорогой со «столицей» фемы – Амасией, а оттуда – с глубинными районами восточной Малой Азии. Ближайшими его соседями к западу являлись порты Сампсона и Синопы, а к востоку – Ватисы и Керасунта, все, как и Амине, торговые, таможенные центры, где собирались пошлины и действовали коммеркиарии (подр. см.: Antoniadis–Bibicou H. Recherches sur les douanes a Byzance: l’octava, le «kommerkion» et les commerciaires. – Paris, 1963). Следует принят во внимание, что Херсон имел прочные, уходящие корнями в первые века н.э. традиции торговых связей преимущественно с городами Вифинии и Пафлагонии, особенно Гераклеей, Амастридой, Синопой, то есть центрами северо-западной части малоазийского побережья Черного моря. Однако Амис тоже находился в числе его давних деловых партнеров (Кадеев В. И., Сорочан С. Б. Экономические связи античных городов Северного Причерноморья в I в. до н.э. – V в. н.э. – Харьков, 1989. – С. 15, 20, 36, 40, 42, 45, 48, 55, 59, 61,69, 73, 75, 97). Видимо, к X в. морские контакты херсонитов стали осуществляться не только главным образом с пафлагонским центрами, как это было прежде, но и гораздо более тесными стали с северо-западной и северо-восточной частями черноморского побережья Малой Азии («с боками Понта»). Причину необходимости регулярных поставок продовольствия в Херсон следует видеть не столько в низкой продуктивности местного сельского хозяйства, сколько в изменении характера прежнего хозяйственного баланса после развала византийско-хазарского кондоминиуму на крымских землях, последовавшего с 40-х гг. IX в и усугубленного приходом печенегов в конце IX – начале X вв. (см.: Сорочан С. Б. О торгово-экономической политике Византии в Таврике в VII–IX вв. // Проблемы археологии древнего и средневекового Крыма. – Симферополь, 1995 (1996). – С. 114–122; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. – С. 259–267; Сорочан С. Б. «Carceris habitateris» – C. 102–103). Эти изменения позволили официальному Константинополю использовать южнобережный транспортный флот как эффективный экономический, а значит, и политический инструмент воздействия на своих херсонских подданных. Отсутствие такой возможности прежде побудило Константина вспомнить о ней и зафиксировать эту сравнительно новую особенность в конце главы, посвященной истории Херсонеса – Херсона.
1499
An Unknown Khazar Document by S. Schechter // The Jewish Quarterly Rewiew. New Series. – 1912. – Vol. 3. – № 2. – P. 181–219.
1500
Коковцов П. К. Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русских отношениях в X веке. – СПб, 1913. – 25 с. (отд. отт. из ЖМНП, с.150–172). В дальнейшем он был включен в издание: Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. – Л., 1932. – С. 113–123. Новое издание и первод «текста Шехтера» выполнены американским гебраистом, профессором Чикагского университета Норманом Голбом, а источниковедческая оценка документа дана востоковедом, профессором Гарвардского университета Омельяном Прицаком (Гояб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. – М.; Иерусалим, 1997. – С. 101–193 (перевод – с.138–142).
1501
См.: Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 141,163–164. Неоднократно встречающиеся в тексте обращения анонима к «своему (моему) господину» и путаница в отношении Хазарии, которую он называет то «нашей», то «вашей» страной, заставляют подозревать в авторе документа человека, работавшего если не по поручению, то во всяком случае для царя Иосифа, сына Аарона, которому он подбирал соответствующие выписки из материалов по истории и географии государства хазар.
1502
Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – C. VII; Zukerman С. On the Date of the Khazars Conversion to Judaism and the Chronology of the Kinge of the Rus Oleg and Igor // REB. – 1995. – T.53. – P. 239–241; Zuckerman C. Le voyage d’Olga et la premiere ambassade a Constantinople en 946 // Travaux et Memoires. – 2000. – T. 13. – P. 458–460; Древняя Русь в свете зарубежных источников. – M., 2003. – С. 227–229.
1503
Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. – Ithaca; London, 1982. – P. 90–95; Цукерман К. Про дату повернення хазар до іудаізму й хронологію князювання Олега та Ігоря // RUTHENICA. – 2003. – Т. 2. – С. 53–56; ср.: Плетнева C. А. Хазары. – M., 1986. – С. 5–6.
1504
Наиболее ранняя датировка выдвинута А. П. Новосельцевым на основании анализа сообщений арабских источников о походах русов на Каспий в 909–914 гг., хотя нельзя исключить и более позднюю дату события – рубеж 930–940-х гг. в связи с упоминанием в византийских источниках разгрома морского похода русов в сентябре 941 г. у берегов Фракии (ср.: Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. – М., 1990. – С. 212–218; Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents… – P. 137; Голб H., Прицак О. Хазарско-еврейские документы… – С. 141, 163–164; Древняя Русь в свете… – С. 115–116).
1505
Текст начинается с полуфраэы, поскольку первые листы рукописи потеряны. Поэтому синтаксическое положение слова ’RMNY (Arminija) остается неизвестным и вместо родительного падежа («Армении»), взятого в русском переводе, возможен любой другой падеж в зависимости от того слова, которое в еврейском оригинале стояло непосредственно перед словом Arminija, например: «[в] Армению», «[из] Армени», «[через] Армению» и т.п. Н. Голб утверждает, что речь в тексте шла «…о бегстве евреев или приверженцев монотеистического иудаизма, духовных предшественников иудейских хазар, иэ Армении или через Армению в Хазарию по причине преследований со стороны идолопоклонников», но в переводе укаэывает это слово в именительном падеже – «Армения» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 129,138, л.1, лицевая сторона, 1).
1506
У Н. Голба: «и [наши] отцы бежали перед ними».
1507
Под этими «идолопоклонниками» (‘bde elilim), очевидно, следует понимать пер- сов, поскольку в Сасанидском Иране в VI – первой четверти VII вв. дествительно преследовали евреев (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 156).
1508
У Н. Голба: [люди Казарии]. Поскольку дальше речь идет и о «людях казарских», и о «князьях (вождях, начальниках) Казарии», возможен любой вариант предположительной реконструкции текста.
1509
По мнению П. К. Коковцова, название хазар, употребляемое Кембриджским Анонимом, ближе к истинному его произношению (систематически пишется Qazar, То есть с велярным к в начале). Орфография документа отступает от передачи этого названия у арабов и виэантийцев (al-Chazar, Chazaroi), но поддерживается русской передачей в летописи «Козаре» и итальянской – «Gazaria». Ср. по этому поводу замечания А. Я Гаркави (Сказания еврейских писателей о Хазарах и хазарском царстве. – СПб., 1874. – С. 46, 157).
1510
У Н. Голба: «были сперва без Торы» (Голб Н., Прицак Указ. соч. – С. 138, л.1, лиц. сторона, 3).
1511
П. К. Коковцев заметил по этому поводу, что в еврейском тексте стоит слово michtab, которое в библейском языке имеет также значение «писания», а в средневековом яэыке обозначает обычно «письмо, послание», причем не обязательно именно «священное писание, священные книги». Каким бы бедственным ни было положение еврейских беженцев, они не могли утратить последние (Коковцов П. К. Еврейско- хазарская переписка… – С. 113, прим. 4). Тем не менее Н. Голб предлагает следующее прочтение фрагмента: «в то время как [их сосед Армения] оставался без Торы и письма» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л.1, лиц. стор., 3–4).
1512
Восстановление П. К. Коковцова вполне надежно, ибо следует тексту библейского места (Ис. 10, 35), которое использовано здесь анонимным автором. Оно поддерживается также следами отдельных букв, поддающихся распознанию в факсимиле (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 113, прим. 5; ср.: Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л. 1, лиц. стор., 4–5). Однако сомнительно, чтобы между язычниками-хазарами и евреями иудаистами смешанные браки имели массовый характер, учитывая замкнутый общинный характер еврейской жизни и строгие семейные законы (Тортика A. A., Михееѳ В. К. «Иудео-хазарский» период истории Хазарского каганата: к продолжению критического анализа концепции Л. Н. Гумилева // Хазарский альманах. – M., 2003. – Т. 2. – С. 114).
1513
По смыслу правильнее у Н. Голба: «Однако они были тверды только в завете об- резания» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л.1, лиц. стор., 6).
1514
Эти слова позволяют говорить о потере религиозных и культурных традиций первых еврейских переселенцев в Хазарию, но не о караимском характере их религии, как иногда представляется (см.: Тортика A. A., Muxeeв В. К. «Иудео-хазарский» период… – С. 114). Видимо, речь шла о первоначальной иудаизации, что совпадает с данными письма царя Иосифа к Хасдаю ибн Шапруту, где говорится о религиозном диспуте, обрезании народа и доставке «изо всех мест мудрецов израильских», которые объяснили хазарскому владетелю закон Моисея и заповеди (см. в Антологии).
1515
И не было царя В стране казар – в этих словах анонима явно проглядывает намек на иную организацию власти у хазар, когда у них был хаган, но не было его «первого советника», пеха (бека) или шада (ишада), позже, не ранее конца IX в. ставшего зваться царем (melek, по-арабски – malik). Именно таким царями были Вениамин, Аарон и Иосиф, еврейским подданным которого, скорее всего, был автор письма – иудей. 06 упадке власти хагана в IX в. и причинах этого см.: Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль… – С. 140–141; Цукерман К. О происхождении двоевластия у хазар и обстоятельствах их обращения в иудаизм // МАИЭТ. – 2002. – Вып. 9. – С. 521–530.
1516
У Н. Голба: «главнокомандующим войска» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л. 1, лиц. стор., 8–9).
1517
… один еврей – по мнению Н. Голба, «явно потомок тех, кто бежал из Армении» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 130).
1518
К. Цукерман верно заметил, что этот военачальник – еврей, в дальнейшем «главный княэь» и первый царь Хазарии, то есть ее шад или пех (бег, бек), обратив- шийся в иудаизм, имел только оборонительные достижения («…обратил в бегство врагов, выступивших против казар») Но почему под борьбой с этими весьма аморфно и хронологически, и географически обрисованными врагами хазар надо подразумевать именно «сдерживание венгров на Дону» в IX в. остается неясным (см.: Цукерман К. О происхождении двоевластия у хазар… – С. 530).
1519
…желания принести покаяние. В пер. Н. Голба: «вернутся (к иудаизму) (Гопб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л.1, лиц. стор., 13).
1520
Крайне редкое древнееврейское имя. Сохранилось в употреблении у кавказских евреев (Кокоѳцоѳ П. К. Указ. соч. – С. 114, прим. 2).
1521
Библейское выражение, заимствованное из Ис. 48. 17 и означающее обрезание.
1522
To есть принять иудаизм, а не сделать обрезание, которое уже имел
1523
Выражение, навеянное соответствующим местом Быт. 7. 1.
1524
Следовательно, вождь хазар стал истинно верующим евреем под влиянием своей жены и богобоязненного тестя, исповедовавших иудаизм. В Письме царя Иосифа в аналогичном случае главная роль отводится ангелу Господню, а не евреям, отцу и дочери (см.: Антология).
1525
…цари македонские и арабские – василевс ромеев и халиф восточных мусульман («цари Македона и цари Аравии»).
1526
В пер. Н. Голба это предложение выглядит следующим образом: «Они го- ворили то, что для нас невозможно передать и повлияли на сердца начальников вредно» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 139, л.1, лиц. стор., 20–21).
1527
Автор документа, по-видимому, подразумевает место Ис. 41. 22; поэтому пробел в контексте может быть восстановлен приблизительно так: «о деянии Бога [своего, и мы мог- ли бы знать, каков был] конец его» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 114, прим. 5). У Н. Голба: «о деяниях [его] Б-га [от начала до] конца» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 139, л. 1 об., 1).
1528
речь идет о посланниках, отправленных хазарской знатью к царю греков и к царю арабов. С восстановлениями в пер. Н. Голба читаем: «Они сделали так; [Ма]ке[д] он послал некоторых из [своих мудрецов и также] цари Аравии» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 139, л.1 об., 1–2).
1529
В пер. Н. Голба: «и мудрецы Израиля добровольно пришли [в соответствии с просьбой] начальников Казарии» {Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 138, л.1 об., 2–3). Однако П. К. Коковцов отмечал, что «…остатки еврейских букв в данном месте допускают только принятое мной чтение: » [к] князьям казарским» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 115, прим. 1).
1530
У Н. Голба: «И начали греки свидетельствовать о Нем (?) с[перва]» (Голб Н., Прицак О. Указ соч. – С. 139, л.1 об., 3–4).
1531
В тексте вместо «их» стоит «его», что, вероятно, следует считать опиской.
1532
Выражение заимствовано из Ис. 16. 35. У Н. Голба оно осовременено: «в населенную страну» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 139, л.1 об., 7).
1533
Следует обратить внимание, что приказ отдают «князья (начальники) хазарские», а не их главный военачальник – еврей. Следовательно, эти начальники уже знали об иудейских книгах, рукописях (sefarim) и больше своего главного военачальника были убеждены в правильности иудаизма (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 145, прим. 30). Это лишний раз подтверждает версию о давнем распространении иудаизма прежде всего среди хазарской верхушки.
1534
TYZWL (= Tezul, Tizol). Топоним этот не встречается в других источниках о хазарах. По-видимому, долина или равнина «Тизул» в данном документе играет ту же роль, которую в рассказе рабби Иехуды (Иуды) Галеви (вторая половина X в.) о переходе хазар в еврейство (Sefer hakuzari. II. 1) играет пещера в «горах Варсан», где хазарские евреи проводили каждую субботу (cp. Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. Und 10 Jh. – Leipzig, 1903. – S. 19; Голб H., Прицак O. Указ. соч. – C. 157). Xac- даи ибн Шапруту, судя no его письму царю Иосифу, тоже было известно о привычке еврейских переселенцев в Хазарии молится в пещере (Коковцов П. К. Еврейско- хазарская переписка… – С. 67). О предполагаемом совмещении TYZWL с TRKW (Тарку), вторым названием старой хазарской столицы С-м-н-д-р в Дагестане, см.: Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 100, прим 2–3; с.115, прим. 4; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 154, 157.
1535
… книги закона Моисеева – видимо, кодексы, содержавшие отдельные книги Пятикнижья (очевидно, книги Бытие и Исход). В пер. Н. Голба: «книги Торы Моисея» (Голб, H., Прицак О. Указ. соч. – С. 131, 139, л.1 об., 11).
1536
Пер. Н. Голба более категоричен: «И вернулся Израиль с людьми Казарии (к иудаизму) полностью» (Гопб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 139, л.1 об., 12–13).
1537
В тексте ошибочно написано Bursan (вместо Chursan), с весьма обычным в еврейских рукописях смешением букв бет и каф. Хорасан – арабский эмират, восточно-иранская область, нередко отождествляемая авторами X в. с Персией (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 115, прим. 5; ср.: Константин Багрянородный. 06 управлении империей. – M., 1989. – С. 94–95, гл.25. 67).
1538
…земли греческой – «земли Греции», то есть Византии как страны.
1540
Примечательно, что это сделали «люди страны», а не «князья хазарские» или их главный военачальник.
1541
Эта буквально переведенная П. К. Коковцовым фраза допускает двоякое толкование. Она может обозначать, что такого судью хазары называют на своем языке хаганом (KGN). Но возможно, хотя менее вероятно, что автор желает сказать, что судья по хазарски называется «хаган» (gagan). Тюркский титул правителя – хаган (каган) был употребителен не у одних только хазар, но и у тюрок, дунайских болгар, у авар, даже у русов-язычников, вожди которых претендовали на него с IX в. (Marquart}. Op. cit. – S. 200, 202; Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 115, прим. 7; Новосельцев А. П. К вопросу
об одном из древнейших титулов русского князя // История СССР. – 1982. – №4. – С. 150–159; Плетнева С. А. Каган и князь // Родина. – 1997. – № 3–4. – С. 19–23), и у всех этих народов всегда прилагался к их верховным властителям. Автор Анонимного письма пишет каган (kagan), а не хаган, отступая от орфографии как византийцев (chaganos), так и арабов (chagan), но в древнерусских источниках мы встречаем такое же правописание с «к« (напр., «великий каган нашеа земля Владимер»). Арабские авторы засвидетельствовали существование своеобразного двоевластия у хазар в IX–X вв. в лице «великого царя» или «хакана» («хаган-хазар»), номинального главы государства, и просто царя (по-арабски малик или малех), фактического правителя хазарской земли (подр. см. коммент. к Продолжателю Феофана. III. 28; ср.: Цукерман К. О происхождении двоевластия у хазар… – С. 521–534).
1542
Автор документа утверждает, что все «судьи» хазар, начиная с первого, израильского мудреца, продолжали всегда именоваться «каганами». Высшие судебные функции присваивают хазарским хаганам в IX–X вв. и арабские авторы (Сказания мусульманских писателей о славянах и русских собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1870. – С. 152), хотя, конечно, ими не исчерпывались прерогативы этих хаганов, то есть они никогда не были у хазар только судьями (см.: Петрухин В. Я. К вопросу о сакральном статусе Хазарского кагана: традиции и реальность // Славяне и их соседи. Славяне и кочевой мир. – М., 2001. – Вып. 10). Но и термин «судья» (sofet) из «документа Шехтера» нет никакой необходимости понимать в его узком современном значении. Неизвестный автор отрывка мог, говоря о каганате, вдохновится образом древнеизраильских «судий», то есть судей-правителей, и поэтому употребить в данном случае то же самое еврейское выражение sofet, а не слово dajjan, более обычное обозначение судьи в раввинском языке. Впрочем, по мнению П. К. Коковцова, он мог умышленно свести все значение хагана (кагана) к чисто судебной деятельности и затем произвольно перенес это положение дела в эпоху возникновения института. Хаган, несомненно, подрывал власть и авторитет так называемых «хазарских царей» (бывших пехов, шадов). Из Анонимного письма с полной ясностью вытекает факт, что и царь Иосиф, составитель письма к Хасдаю ибн Шапруту в Кордову (см.: Антологию), и другие еврейско-хазарские цари, были не хаганами, то есть верховными номинаальными повелителями хазар, а шадами или беками (пехами), то есть подлинными царями-правителями, лишь теоретически подчиненными власти хаганов (каганов). Так как последние в X в. не играли более первой роли в жизни хазарского государства и, действительно, может быть, представляли из себя только судей высшей инстанции, сохраняли сакральные функции, естественно, что хазарский еврей, подданный еврейско-хазарских «царей», менее интересовался хаганами, чем «царями» (шадами, беками). Это обстоятельство объясняет непонятный факт, что хаганам в Кембриджском документе уделено самое ничтожное внимание, а в царском хазарском письме в Кордову самое существование этого института и звания вовсе замалчивается.
1543
Sabriel – искусственно образованное имя (по типу библейских имен на el, как Gabriel и т.п.) с символическим значением «Бог – моя надежда» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 116, прим. 1).
1544
Хазары изменили на еврейское прежнее тюркское личное имя «великого военачальника Казарии», «главнокомандующего Казарии» – своего правителя (еще не хагана) и установили монархию (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 40, 131, 140, л. 1 об., 18–19). Это лицо представляется некоторым исследователям идентично с владетелем Буланом,
упомянутым в письме царя Иосифа в разделе о принятии первоначального иудаизма хазарами (Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents… – P. 106; Zuckerman C. On the Date of the Khazars Conversion to Judaism… – P. 253–254). К. Цукерман относит его деятельность ко времени между 830–860 гг. Так или иначе, из текста документа определенно следует, что только с обращения хазар в иудаизм возникло их царство. соч. – С. 116, прим. 1).
1545
В известном еврейском сочинении «Книга Эльдада данита (га-Дани – путешественника)» (последняя четверть IX в.) также указывается, что в стране хазар живут евреи колена Симеона (и полуколена Манассии) (см.: Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве. – С. 21,29; Три еврейских путешественника XI и XII века. – СПб, 1881. – С. 18–19; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 156, прим. 27). Однако сами хазарские цари, судя по письму Иосифа, возводили хазар к потомкам Тогармы, сына Иафета (Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – С. 74). Здесь в «докумете Шехтера» его автор-еврей в очередной раз старательно подчеркнул свою этническую обособленность от хазар (ср. выше: «и бежали от них наши предки […] и приняли их к себе [князья казарские]». Его оригинальная теория о возникновении у хазар царской власти и хаганата в связи с переходом в иудаизм легко объяснима несомненным желанием показать, что все счастье хазарского народа и самое образование государства было непосредственным результатом принятия еврейской религии. Впрочем, эта версия истории обращения хазар представляется гораздо более естественной и правдоподобной в своем основном ядре – ближайшей инициативе хазарских евреев, чем та, которая излагается в письме хазарского царя Иосифа в Кордову и где о еврейском влиянии не говорится ни слова, а переход в иудаизм объясняется исключительно сверхъестественными причинами, а именно откровением свыше, полученным одним из хазарских царей (см. еврейско-хазарские письма в Антологии). Однако составитель «текста Шехтера» склонен считать правителей хазар, царей и хаганов (каганов), за чистокровных евреев, то есть семитов, в чем видится очередная натяжка. Впрочем, в отношении «царей» он мог быть недалек от истины. По крайней мере, заявление о еврействе первого из царей, Савриила, хорошо объяснило бы как самый факт обращения хазар в иудаизм, так и вообще господствующее положение евреев и иудействующих, несмотря на их относительную малочисленность, в хазарском государстве, потому что из него можно было бы извлечь, что так называемые еврейско-хазарские «цари» (малики арабских писателей) были в действительности сначала лишь полновластными «первыми советниками», «министрами» еврейского происхождения, которые захватили впоследствии всю власть своих государей, хаганов, в свои руки и, как майордомы франков в VIII в., сделали свое ≪царское≫ звание наследственным.
1546
…крепче. У Н. Голба: «более жестоко» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 140, л. 1 об, 22).
1547
Ираноязычный этнос – аланы к первой половине X в. обитали на Северном Кавказе, в Центральном Предкавказье и Северном Причерноморье (Кузнецов В. А. Алания в X–XIII вв. – Орджоникидзе, 1971. – С. 23 сл.). О враждебных отношениях алан и хазар в первой половине X в. см.: Константин Багрянородный. 06 управлении… – Гл. 10, 11. Однако из рассказа Кембриджского анонима следует, что поначалу взаимные отношения двух соседних народов были дружественными и даже союзническими, особенно по причине того, что часть алан, как и хазары, «соблюдала иудейский закон». Едва ли такое положение могло существовать позже начала X в. К Цукерман видит в угрозе для хазар исключительно венгров (Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах Византии и Хазарии ок. 836–889 г. // МАИЭТ. – 1998. – Вып. 6. – С. 674), однако надо учесть, что не менее сложные отношения сложились у хазар с печенегами, аварами, узами, о которых, как о врагах хазарского царя, сообщал рассказчик (см. ниже).
1548
Текст восстановлен П. К. Коковцовым на основании библейского места Быт. 35. 5, из которого заимствовано все выражение
1549
Предлагаемое восстановление опирается на дальнейший контекст. Из него видно, что описываемые события относятся к царствованию хазарского царя Вениамина, который, по мнению О. О. Прицака, правил около 880–900 гг. (в пер. Н. Голба имя дано с опиской – Вениамнин). В письме царя Иосифа к Хасдаю ибн Шапруту это имя в списке еврейско-хазарских царей не упоминается (см. Антологию). Вообще, создается впечатление, что автор документа либо его позднейшие переписчики пропустили царствование ряда хазарских правителей после Сабриэля и прямо перешли к событиям IX в. в царствование Вениамина (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 132, прим. 2; с.159).
1550
… царя македонского – василевса ромеев. Ниже он же назван «греческим царем». Очевидно, к концу IX в. хазарам пришлось воевать с целой коалицией народов и государств, отганизатором которой была Византия в период правления MQDWN – Македонской династии (867–1056) (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 159).
1551
Асия (’SY’) – аланы-буртасы со средней Волги или, судя по орфографии, аланыасы (ясы) с территории Северо-Западного Кавказа и Нижнего Дона (ср.: Плетнева С. А. Средневековые «амазонки» в европейских степях // Археологические памятники лесостепного Подонья и Поднепровья I тысячелетия н.э. – Воронеж, 1963; Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Documents… – P. 128, 133–134; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 160, 220 (к с. 160); Бубенок О. Б. Алани-аси Дншровсько-Донського межирiччя на вiйськовiй службi в хазар // Х азарский альманах. – Харьков, 2002. – Т. 1. – С. 25. Но П. К. Коковцов допускал, что речь могла идти об узах или гузах, воевавших с хазарами, поскольку в тексте источника аланы и их царь упоминались особо (Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – С. 117, прим. 1).
1552
Вставка базируется на последующем упоминании в тексте «царя турок» (TWRQY’・). Под «турками» здесь следует понимать, вероятно, не венгров (турок византийских писателей), а туркмен-огузов (узов, гузов, ouzoi византийских писателей), кочевавших в донских и приднепровских степях, но не долго. На рубеже IX–X вв. они действительно выступали в союзе с печенегами против хазар (см: Константин Багрянородный. Об управлении… – Гл.10, 37; Голб Н» Прицак О. Указ. соч. – С. 132, 160).
1553
В этом месте Н. Голбу удалось разобрать слово ’ВМ, под которым О. О. Прицак предлагает понимать указание источника на черных булгар, живших вдоль р. Кубань (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 140, л.2, лиц. стор., 6).
1554
PYYNYL (P-jj-nil) – искажение имени печенегов: P-c-n-k (Patzinakitai, Pazinakitai византийских писателей, Bagnak арабов). Если название народа, неизвестное из других источников, интерпретировано верно, тогда упоминание его может служить своеобразным terminus post quem non для событий, описываемых в документе, поскольку печенеги, распространившиеся в степях между Доном и Дунаем, вступили в серьезный конфликт с хазарами из-за территории расселения не ранее самого последнего десятилетия IX в., когда они разгромили венгров (см.: Константин Багрянородный. Об управлении… – Гл.37; Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 159).
1555
УН. Голба, изучавшего фотографии рукописи, сделанные в ультрафиолетовых лучах, этот абзац выглядит следующим образом: «[Но в дни Вениамина] царя возмутились все народы против [казар], и они обложили и[х с помощью] царя Македона. Пошли воевать царь SY, и TWRQ[Y..J, [и] ВМ, и PYYNYL, и Македон; только царь алан поддержал [народ казар, так как] часть их соблюдала Закон евреев» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 140, п.2, лицевая сторона, 3–7). О. Прицак полагает, что ‘ВМ «текста Шехтера» восходит к первичному Qubam (Quban) и предлагает понимать под этим словом известных византийцам черных булгар, обитавших в Прикубанье (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 159,160). Так или иначе, в конце IX в. определенная часть аланов Северного Кавказа исповедовала иудаизм и по этой причине являлась союзником хазар.
1556
Выражение заимствовано из II Парал. 36. 16. В пер. Н. Голба: «и раз[громил] ее так, что нельзя восстановить» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 140–141, л.2, лиц. стор., 8–9). Союз хазарского царя Вениамина с царем алан мог иметь место не позже начала X в., поскольку в патриаршество Николая Мистика (1 марта 901 г. – февраль 907 г.) правитель алан обратился в христианство, Аланское архиепископство стало частью Константинопольского патриархата и прежние дружественные отношения двух степных народов отошли в прошлое по крайней мере до 932 г., когда аланы, по данным ал-Масуди, отреклись от христианства (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 161,162).
1557
Согласно хронологии хазарских царей, предложенной О. О. Прицаком и разделяемой Н. Голбом, Аарон следовал после Вениамина, в первые два десятилетия X в. (Гопб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 143, прим. 3; с.159).
1558
Это сближение аланского царя с Византией может быть объяснено начавшим процессом распространения христианства среди аланов.
1559
Восстановление С. Шехтера, принятое П. К. Коковцовым (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 117, прим. 7). Н. Голб предлагает иную реконструкцию: «[был силен]» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 11).
1560
Выражение, навеянное библейским местом I. Сам. 14. 13.
1561
У Н. Голба: «в его [з]емлю» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 14). М. И. Артамонов приурочивает поражение алан, пленение их правителя и женитьбу сына царя Аарона, Иосифа, на дочери плененного к 932 ., основываясь на указании ал-Масуди об отречении алан от христианства «после 320 г. хиджры» (Артамо- нов М. И. История хазар. – Л., 1962. – С. 363–364), хотя это могло случиться и раньше, ближе к началу X в. (ср.: Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 163).
1562
Из текста ясно следует, что писавший жил при хазарском царе Иосифе, сыне царя Аарона, что совпадает с именем хазарского царя, который во второй половине 950-х гг. писал послание в Кордову раввину Хасдаи ибн Шапруту, отвечая на вопросы последнего (см. Антологию). По мнению О. Прицака, правление Иосифа следует датировать временем около 920–960 гг. (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С163).
1563
Реконструкция предложена С. Шехтером и П. К. Коковцовым (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 117, прим. 9). В пер. Н. Голба: «[он искал] его помощи» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, п.2, лиц. стор., 16).
1564
Еврейское слово hasmada, если только это не описка, употреблено здесь весьма необычно вместо слова semad (или hassemad) (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 117, прим. 10).
1565
Н. Голб предлагает следующий перевод этого предложения: «И еще в дни Иосифа царя, моего господина, [но искал] его помощи, когда гонение обрушилось во время дней Романа злодея». Сам ф акт поиска владетелем аланов заступничества у Иосифа свидетельствует о том, что верхушка аланов придерживалась в это время отнюдь не христианства (Бубенок О. Б. Данные письменных источников о распространении иудаизма среди аланов во времена средневековья // Хазары. Второй Международный коллоквиум. Тезисы. – М., 2002. – С. 18). В первой половине X в. в Византии был известен лишь один деспот и василевс с таким именем – Роман Лакапин. Однако перепитии начала формального царствования Константина VII Багрянородного (908–959), последующая выдающаяся роль кесаря и василевса Романа I (919–944), ставшего тестем Константина и фактически узурпировавшего власть, привели к тому, что в представлении восточных народов он являлся именно тем «греческим царем», который правил Византией едва ли не всю первую половину X в. Поэтому неоднократно встречающееся в «тексте Шехтера» имя Романа следовало бы поставить в кавычки, а упоминаемые в связи с ним события могли произойти и до 919 г., когда Роман Лакапин стал кесарем. Неизвестный автор документа вообще слабо разбирался в истории чужеземных правителей, как это видно на примере «царя Русии» Халгу (Хелгу), который мог быть и князем Олегом, и князем Игорем. Относить гонения на евреев в Византии только ко времени начала или конца правления Романа Лакапина было бы натяжкой, поскольку иудеев не жаловали и его предшественники, в частности Лев VI (886–12), и преемники, по крайней мере Константин VII до середины X в. (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 117, прим. 10; Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 163; ср.: Alexander P. J. Religious Persecution and Resistance in the Byzantine Empire of the Eighth and Ninth Centuries: Methods and Justification // Speculum. – 1977. – Vol. 52. – P. 238–264; Хазанов А. Евреи в раннесредневековой Византии // Вестник Еврейского университета в Москве. – 1994. – №1 (5). – С. 24–27).
1566
Употребленное здесь еврейское выражение заимствовано из Библии (Плач. Иер. 1. 15). В переиздании текста перевода П. К. Коковцов передал его словом «ниспроверг» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 118, прим. 1).
1567
Н. Голб предлагает несколько иной вариант пер.: «Он избавился от многих христиан» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 17, с. 147, прим. 51). Если упомянутый в тексте царь Иосиф, сын Аарона, одно и то же лицо с хазарским царем, писавшим в Кордову не ранее середины X в., значит нападение хазар на византийцев, очевидно, в их крымских владениях, в ответ на гонения на иудеев и, возможно, на попытку поставить епископа в Хазарии (см.: письма патриарха Николая Мистка от 919–920 гг.), произошло при Иосифе, но сравнительно давно, в 20-е или 30-е гг. X в., ибо в письме Хасдаи ибн Шапрута к этому царю сообщалось, что послы «царя Кустантинии» (Константинополя), побывавшие в Кордове во второй половине 940-х – самом начале 950-х гг., отзывались о хазарах уже как о почитаемых союзниках и приятелях греков (см. Антологию).
1568
Начинающийся отсюда новый пассаж на первый взгляд связан с предыдущим рассказом и как бы является его продолжением, однако ничто не мешает начать его с красной строки и видет в нем самостоятельный отрывок о событиях, которые могли предшествовать расправе царя Иосифа над христианами. Плохо вокализуемое HLGW (H-1-g-u), согласно правилам еврейской орфографии, может читаться как Halgu (Halgo) или Helgu (Helgo). Буква вав (и), обозначающая в еврейском алфавите собственно неслоговое и, употребляется в еврейском письме (в средине и в конце слова), как известно, для передачи обеих гласных: и к о (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 118, прим. 2). Трактовка этого Х-Л-Г-У исследователями неоднозначна, а имеющий к нему отношение эпитет «царь Руси» (melek RWSY’) не обязательно должен пониматься буквально. Не исключено, что это был некто подвластный князю Игорю, его воевода, известный по Начальной летописи, либо «синтезированный образ Олега Вещего и Игоря», который путался даже в русских летописях, возможно, сам князь Игорь, но не князь Олег, достоверные сведения о котором обрываются после 911 г. (ср. разные версии: Новосельцев А. П. Указ. соч. – С. 216–217; Цукерман К. Про дату повернення хазар… – С. 53–84; Петрухин В. Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского документа и русский княжеский род // Древнейшие государства на территории Восточной Европы. 1998 г. – М., 2000. – С. 222–229; Князький И. О. Русско-византийская война 941–944 гг. и Хазария // Хазары. Второй Международный коллоквиум. Тезисы. – М., 2002. – С. 51–53).
1569
Употребленное в тексте слово (medina) обычно означает «область, провинцию», но в средневековом литературном языке оно имеет также, под влиянием соответствующего арабского словоупотребления, значение «город», «резиденция». К примеру, в таком смысле слово medina употреблено в письме кордовского еврея Хасдая ибн Шапрута к хазарскому царю Иосифу, где оно прилагается к столицам Кордовского халифата и Византии (см.: Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве. – С. 92 сл.; Marquart J. Osteuropaische und ostasiatische Streifzuge. – S. XLII; Коковцов П. K. Указ. соч. – C. 84, прим. 4; с.118, прим. 3).
1570
Первоанчально графика этого слова у П. К. Коковцова: S-m-b-r-jj и немного далее – S-m-b-r-j-u. В тщательно выверенном переиздании и у Н. Голба – S-m-k-r-jj (С-м-к-рай) (Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – C. XXXV, прим. 2; с. 35, 13); Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 19). Вероятно, слово искажено из S-m-k-r-c, как обозначается, по-видимому, Гермонасса – Таматарха – Тмутаракань в пространной редакции письма царя Иосифа Хасдаю ибн Шапруту (см.: Marquart J. Op. cit. – S. 163,203,351; Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 106, прим. 19; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 164). Искажение, видимо, произошло на еврейской почве, как выше в наименовании народа P–jj–nil = P–c–n–k. Самбарай (Самкарай, Самкерц, Самкерчь), если это действительно была Таматарха (Матраха), представлял собой важный порт на крайней оконечности Таманского полуострова, в 60 км от Боспора (Керчи), в 21 км юго-западнее Фанагории, прекратившей существование в начале X в. Из арабо-персидских источников следует, что во второй половине IX в. Керченский пролив служил западной границей Хазарии, но Самкарай, в отличие от Боспора, видимо, все еще находился в X в. под контролем хазарских властей, организовавших здесь сильную военную заставу из «хорошо снаряженных людей хазарского царя» и таможню (Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – С. 84–87; Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. – Баку, 1986. – С. 124; Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. – С. 198–199; Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1988 г. – М., 2000. – С. 291–292).
1571
…начальника. О. О. Прицак предлагает переводить это слово (hapaqid) как «командующий» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 164).
1572
По мнению П. К. Коковцова, в этих еврейских словах (rab Hashmonai) следует видеть скорее имя собственное – необычное, правда, в еврейской литературе – с предшествующим титулом «rab» (господин) (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 118, прим. 5). Н. Голб предлагает перевод: «вождь войска». Не исключено, что здесь подразумевались хасмонеи и их военная удаль, и тогда слово использовали в качестве эпитета для военачальника в Самкарае (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 20; с.147, прим. 54). Его отождествление с указанным ниже Песахом весьма сомнительно.
1573
BWLSSY (B-u-1-s-c-j), что можно, по правилам еврейской фонетики, прочитать Bulsaci (Bolsaci) или Bulsici (Bolsici). Судя по употребленному автором обороту, термин бул-ш-ци обозначал звание или должность того лица, которое носило еврейское имя Песах, а не второе, хазарское, его имя. Несмотря на накопленную к настоящему времени обширную литературу по вопросу этимологии и содержанию термина, он остается не выясненным, хотя его смысловое значение близко к понятию «правитель», «вождь», «полководец», «начальник», «командир», короче, глава военной и гражданской администрации Хазарского каганата в области Приазовья с центром в Самкарае-Таматархе (отсюда, возможно, проистекает многозначность использованного в тексте еврейского термина medina – «город» и «провинция» одновременно) (ср:. Грушевский М. [Рец.] // Укра’ша. – 1928. – Кн.2. – С. 133 (Бруцкус Ю. Д. Письмо хазарского еврея от X века. Новые материалы по истории южной России времен Игоря. – Берлин, 1924. – 46 с.); Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 118, прим. 6; Dunlop D. М. The History of the Jewish Khazars. – Princeton; New Jersey, 1954. – P. 172; Minorsky V. Balgitzi – «Lord of the Fishes» // Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlaners. – Viena, 1960. – Bd. 56. – P. 130–137;
Golden P. B. Khazars Studies: an Historico-Philological Inquiry Into the Origins of the Khazars. – Budapest, 1980. – Vol. 1. – P. 167–169 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль… – С. 144; Голб H., Прицак О. Указ. соч.. – С. 132, 141, л.2, лиц. стор., 20; с. 147–148, прим. 55; Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. – Симферополь, 1999. – С. 187–188).
1574
HMQR (hamejuqqar) – «почитаемый» (см.: Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 118, прим. 7). Н. Голб предпочел не давать перевод этого слова, вокализация которого затруднена (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 21).
1575
П. К. Коковцова считал это еврейское имя сравнительно новым, гораздо позже X в. (Коковцов П. К. Указ. соч. – C. XXXI, 118, прим. 8). Не исключено, что мы имеем дело с одним из самых ранних случаев его появления. Более того, присоединение к имени «Песах» эпитета «почитаемый (досточтимый)» может служить указанием на то, что речь идет об одном из царских сыновей, если не о самом наследнике престола. Из текста также следует, что это был не «начальник, раб Хашмонай» Самкарая: последний находился под контролем бул-ш-ци. Но это не основание для того, чтобы видет в Песахе правителя «хазарской провинции Боспор» и помещать ее центр в Керчь, поскольку по сведениям византийских, арабо-персидских, еврейских источников на Боспоре уже к 70-м гг. IX в. распоряжались византийцы (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 164; ср.: Сорочан С. Б. Византия IV–IX веков: этюды рынка. – Харьков, 2001. – С. 76, 81; Айбабин А. И. Этническая история… – С. 188; Могаричев Ю. М. Крым в VI–XIII вв. // Древний и средневековый Крым. Ч. 1. – Симферополь, 2000. – С. 119; Тортика А. А. Боспор Киммерийский в хазарское время по данным арабо-персидских и хазаро-еврейских авторов // Боспорские исследования. – Симферополь; Керчь, 2004. – С. 379).
1576
…города Романа – византийские города. Предложение видеть в них «сильно византинизированные праболгарские салтово-маяцкие города и поселения», не являлшиеся византийскими владениями в Таврике, противоречит тексту источника (ср.: Майко В. В. Плитовые погребения салтово-маяцкого могильника Таврики Кордон-Оба (К вопросу о христианизации тюрко-болгар Крыма) // Проблемы религии стран черноморско-средиземноморского региона. Сб. науч. тр. – Севастополь; Краков, 2001. – С. 168). Результаты археологических исследований тоже подтверждают вывод о том, что это были центры идентичной, хотя и своеобразной провинциально-ромейской культуры.
1577
В пер. Н. Голба: «…он пошел в гневе на города Романа и губил и мужчин, и женщин. И он взял три города, не считая деревень большого количества» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2, лиц. стор., 21–23).
1578
Херсон (название искажено переписчиком и произносится неопределенно – SWRSWN – Шоршон, Шуршун). См.: Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 119, прим. 9; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 129.
1579
В пер. Н. Голба: «и они вышли из страны как черви» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2 об., 1). По мнению П. К. Коковцова, необычное сравнение с червями должно было заменять стереотипные библейские сравнения с «песком, который на берегу моря», с «саранчаой» и т.п. Дальше, на основании библейского места Иис. Нав. 11, 4, могло следовать: «в таком множестве, чтобы идти войной на» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 119–120, прим. 10). Однако К. Цукерман связывает эти слова с предшествующим рассказом и полагает возможным видеть здесь сообщение о «подкопе», который осажденные херсониты сделали в стан Песаха, «выйдя из земли как черви» Цукерман К. Про дату повернення хазар… – С. 72).
1580
Н. Голб относит это к битве с византийцами, во время которой было убито Песахом 90 врагов (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 133). К. Цукерман, напротив, видит в убитых хазар, пораженных херсонитами из «подкопа».
1581
Реконструкция текстовой лакуны Н. Голбом («[Он не окончательно разгромил их в битве]) представляется слишком гипотетичной (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л. 2 об., 3).
1582
В пер. Н. Голба: «но он обязал их служить ему» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2 об., 3). Скорее всего, эта служба заключалась в обложении тех византийских городов и поселений, на которые напал Песах. Это, пожалуй, единственное свидетельство о дани, а точнее, контрибуции, платимой крымскими центрами хазарам. До похода Песаха такой практики, похоже, не существовало, она вошла в историю новых отношений, вероятно, как акт отмщения, но неизвестно, долго ли продержалась. В любом случае, говорить о завоевании Таврики хазарами в результате этого похода не приходиться (Zuckerman С. On the Date of the Khazar’s Conversion to Judaism…
– P. 257).
1583
H Голб предлагает читать в данном месте «[казар от]» (Голб Н» Прицак О. Указ. соч. – С. 141, л.2 об., 4).
1584
Конъектура С. Шехтера: «[он взял]» (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 11). По мнению К. Цукермана, в этом испорченном, неясном месте речь идет об освобождении, спасении тех плененных, что были приведены русами из Самкарая на продажу в Херсон, а в выданных херсонитами Песаху он видит русов, которые оказались в осажденном городе (Цукерман К. Про дату повернення хазар… – С. 72). Если следовать логике предложенной конъектуры, тогда в Херсоне должен был быть Хлгу, однако о нем и об отобрании хазарами у русов добычи, награбленного, а значит, и пленников из Самкарая, в источнике говорится после упоминания столкновения Песаха с херсонитами («и оттуда он пошел войной на Хлгу»).
1585
Н. Голб восстанавливает указанный здесь в рукописи срок – «[четыре] месяца» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 133,142, л.2 об» 6). Такой срок действительно назван ниже, однако при этом речь идет о войне не Песаха, а Хальгу против Константинополя на море (Ср. там же. – С. 141, л. 2 об., 10–11).
1586
Другой вариант: «и бог подчинил его Песаху». Выражение навеяно такими местами Библии, как Суд. 4. 23 и т. п. (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 12). Эта часть текста, в которой описывается поход хазарского «бул-ш-ци» на русских, сильно пострадала, так что остается неясным, куда именно было направлено движение хазар после набега в Крым.
1587
В пер. Н Голба это место выглядит следующим образом: «и он пошел [дальше и н]ашел …» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 142, л.2 об., 6–7).
1588
В выверенном варианте перевода: «…из С-м-к-рая» (S-m-k-r-j-u) (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 13).
1589
Имеется в виду Хальгу (Хельгу).
1590
Здесь и оба раза дальше в еврейском тексте стоит QWSTNTYN (Qustantina) в отличие от письма Хасдая ибн Шапрута и краткой редакции письма царя Иосифа, где это имя звучит в арабизированном варианте как Кустантиния или Куштантиния, и в отличие также от пространной редакции письма Иосифа, в которой во всех местах значиться Кустандина (Qustandina) (Коковцов П. К. Указ. соч. – C. XXIX, прим. 1; с. 120, прим. 14). По мнению О. О. Прицака, наименование «Кустантина» обозначало «не столицу Византии, а византийские владения в бассейне Черного моря» (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 164). Если это и так, в последующем речь явно шла именно о главном городе Империи, поскольку он упомянут как пункт прибытия кордовского посольства. В любом случае, представлять конфликт, в котором участовала хазарская сторона, Песах, только как столкновение «…сугубо между Киевом и Константинополем», без воздействия со стороны Хазарского каганата, будет ошибочно (ср.: Князький И. О. Русско-византийская война 941–944 гг. и Хазария. – С. 51–53).
1591
У Н. Голба: «мужи доблестные» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 142, л. 2 об, 12).
1592
Очевидно, «жидким (греческим) огнем».
1593
В еврейском тексте – PRS (по П. К. Коковцову) или FRS (по Н. Голбу). Слово истоковывается и как Paras –Персия, и как наименование южного берега Каспийского моря (О. О. Прицак), и как искаженное первоначальное Tiras – Фракия. В последнем случае окончательный разгром русов после их поражения у Константинополя в 941 г., произошел «в сентябре 15 индикта», после ночного отступлении «к фракийскому берегу», где их встретил патрикий Феофан, что представляется более вероятным, нежели очередной далекий поход истрепанных войск (Древняя Русь в свете… – С. 115–116; ср.: Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 15; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 164, 220–221 (к с. 164).
1594
Ср. сообщения восточных источников о морских походах русов на Каспий после 909 г. или о походе на азербайджанский город Бердаа близ р. Куры в 943 / 44 г. или 944/45 г. (Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по P. X. ) собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1870. – С. 130–134, отрывок 12; с.155–159; Новосельцев А. П. Указ. соч. – С. 212–218; Древняя Русь в свете… – С. 221–225, 229). По мнению О. О. Прицака, речь идет об Олеге, но остается неясно, почему, по мнению исследователя, он должен был погибнуть в Каспийском походе именно «…между 920 и 928 гг.», а не несколько раньше или позже (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 73, 92, 133, 164–169). Соотнесение событий с большим морским походом русов в бассейн Каспия «после 300 г. хиджры» (между 912 и 928 гг.), о котором подробно сообщил ал-Масуди, не проясняет, а еще большем запутывает реконструкцию исторической ситуации, изложенной в документе. К сожалению, хронология правления царей Аарона и его сына Иосифа лишена надежных хронологических «реперов», а Повесть временных лет относит завоевание Киева Олегом к 882 г., что вполне увязывается с единственной аутентичной датой для правления князя – 911 г., когда между ним и василевсом Львом VI был подписан известный международный договор (ср.: Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 151, 217 (к с. 96). Еще больше допущений требует отнесение упомянутого к походу русов на Бердаа в армяно-грузинском пограничье, тем более во главе с князем Олегом (ср.: Цукерман К. Про дату повернення хазар… – С. 67–84).
1595
Начальный свод конца XI в., сохранившийся в Новгородской первой летописи младшего извода, и Повесть временных лет не сообщают об управлении Киева хазарами, а лишь о дани, которую последние взымали со славянского племени полян (меч от дыма) (ср.: Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 64, 207 (к с.64), 208 (к с.67–68).
1596
Подразумеваются географические книги (sefarim), вероятно, арабская версия трудов Птолемея, сочинения ал-Хваризми (ок. 835–855 гг.) и др. (см.: Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты, пер., коммент. – М., 1998. – С. 11–107; Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 170).
1597
С начала этого предложения следует новый абзац документа, не связанный с предыдущим. Арканус – Ar-q-nus (у П. К. Коковцова); ’RQNWS (у Н. Голба) В основе своеобразного и ни в одном из известных источников о хазарах не встречающегося мнения анонимного еврейского автора, возможно, лежит легендарный рассказ Книги Иосиппон (VI. 56) о народе Urqanus, который жил по соседству с аланами, запертыми в горах Александром Великим, и, когда этим последним угрожала голодная смерть, выпустил их по их просьбе из заключения. Касательно имени Арканус (Аркнус) применительно к хазарам, П. К. Коковцов высказал предположение, что под эти загадочным обозначением скрывается греческое слово arktos («север») = Ar-q-t-s, из чего легко могло на еврейской почве явиться Ar-q-nus (Urkanus) (см.: Житие Иоанна Готского // Труды В. Г. Васильевского. – СПб., 1912. – Т. 2. – Вып. 2. – С. 389, 391, 394, где можно найти указания, что у византийских, армянских, грузинских писателей хазарскому царю в повествовании иногда присваивалось наименование «царь севера», а местонахождением хазар объявлялась «северная страна»), но в дальнейшем отказался от этой догадки в пользу того, что это имя могло быть простой передачей греко-латинского названия древней прикаспийской области Гиркании (Hyrcanus) и ее народа (Нугcani) (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 16). О. О. Прицак, исходя из данных ал-Хваризми, полагает, что ’RQNWS расшифровывается как Ulug [Al] an-As («Великая страна Алан-Ас»), что заменяло птолемеевский термин «Великая Скифия» (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 170).
1598
Несомненно, речь идет о второй хазарской столице, которая, судя по сообщению ал-Масуди, была перенесена из Баланджера на север, подальше от арабов, после побед последних над хазарами в 30-х гг. VIII в. и процветала до середины 60-х гг. X в. По свидетельству почти всех арабских источников X в., хазарская столица носила имя Итиль (Астиль, Атиль), то есть называлась так же, как и река, которая протекала по городу. Но, по словам Ибн-Хаукаля (Сказания мусульманских писателей о славянах… – С. 151, 228), одна часть Итиля, меньшая, восточная, та, где проживали преимущественно торговцы и мусульманское население, действительно носила имя «Хазаран (Казаран)», из чего ал-Мукаддасий, мало осведомленный позднейший современник Ибн-Хаукаля, сделал даже самостоятельный город «Хазар», отличный от Итиля. Если признать, что в основе показания Кембриджского анонима лежит достоверный факт, в таком случае название столицы именем «Казар» («Хазар»), как заметил уже П. К. Коковцов, можно было бы объяснить тем, что город именовался по его старой, основной части, иначе говоря допустить, что «Хазар» или «Хазаран» – западная, большая часть древней хазарской столицы, где некогда находилась зимняя резиденция хагана, впоследствии было сохранено только за этой частью города в отличие от более новой, получившей имя Итиля (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 120, прим. 17; ср.: Dunlop D. М. The History… – P. 163). Видимо, от этой версии отталкивался О. О. Прицак, когда предположил, что автор документа Шехтера «употребил народное обозначение города», название, которое первоначально обозначало торговый, а не правительственный город, где жил хазарский царь (подр. см.: Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 171, 178–183).
1599
TYL (Атиль) – Волга.
1600
По мнению Н. Голба, речь шла о прибытии кордовского посольства в Константинополь из Средиземного моря через Эгейское (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 133). Но П. К Коковцов указывал на Черное море. Уяснить дело помогает сопоставление с соответствующим местом письма Хасдаи ибн Шапрута к хазарскому царю Иосифу, где в тех же самых почти выражениях говорится о Кордове: «название столицы царства – Куртуба […], она находится налево от моря, идущего до вашей страны и выходящего из великого моря», то есть Атлантического океана (Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве. – С. 93). По-видимому, и в «документе Шехтера» географическое определение относится не к реке, а к городу. Под посланцами подразумеваются Исаак б. Натан и прочие прибывшие от халифа Абд ал-Рахмана и его сановника Хасдая ибн Шапрута, которые действительно находились в Константинополе в течение шести месяцев 949 / 950 г. (подр. см.: Golb N., Pritsak О.Khazarian Hebrew Documents… – P. 90–95)
1601
To есть Средиземное море тянется от Атлантики. Однако Н. Голб видит в этом Великом море Средиземное, а морем, по которому пробирались кордовские посланцы в Константинополь, считает лишь Эгейское и Мраморное моря (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 149, прим. 70).
1602
В тексте опять стоит слово medina.
1603
Ris – талмудическая линейная мера, определяемая в 266 2/3 древнееврейских локтя; 2160 рисов составляют 288 талмудических или, что почти то же самое, римских миль (около 426,5 км). Видимо, не случайно автор «Книги Иосиппон» перевел этим термином латинское слово стадий (Голб Н., Прицак О. Указ. соч. – С. 149, прим. 71). Аноним «документа Шехтера» почему-то предпочел воспользоваться редким термином ris вместо более употребительных у еврейских средневековых писателей терминов mil (миля) и parsa (фарсах, фарсанг). Первый из этих терминов употреблен в письме Хасдаи ибн Шапрута к царю Иосифу, между тем, как в ответном письме хазарского царя в Кордову систематически употребляется термин parsa (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 122, прим. 21).
1604
Девять дней плавания было достаточно для того, чтобы при благоприятных условиях пересечь Черное и Азовское моря. По данным арабских географов, например, ал-Идриси, почти такое же расстояние – 9 с половиной дней плавания и 28 дней сухим путем насчитывалось от Константинополя до Трапезунда (см.: Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 123, прим. 22). У восточных авторов один день морского плавания равнялся 100 милям, а по суши – 25 милям (в 1 миле – 2 км). Значит, морской путь от Хазарии до Константинополя по представлениям современников достигал не менее 900 мил (1800 км), а сухой путь составлял примерно 1400 км, и ее границы находились неблизко от территории Крымского полуострова.
1605
В переиздании перевода П. К. Коковцова это предложение отсутствует (см.: КоКовцов П. К. Указ. соч. – С. 123).
1606
Н. Голб пояснил: «(как союзники)», что не совсем верно, поскольку уводит от понимания перечисленных как хазарских врагов (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 142, л. 2 об., 22).
1607
06 этом этнониме (’SY) см. выше.
1608
Bab al Abwab («врата врат» = великие врата) – арабское наименование прикаспийского города и государства Дербент (Дербенд) при правлении исламской дина- стии Бану Хашим (ок. 869–1077 гг.) (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 172).
1609
ZYBWS (Zibus). Весьма вероятно, что речь идет о соседнем с аланами народе Зихи (Zekchoi, Zechoi, Zichoi у Прокопия и Константина Багрянородного; ср.: Кулаковский Ю. А. Аланы по сведениям классических и византийских писателей // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. – К., 1899. – Кн.13. – Отд.2. – С. 146), жившем по восточному побережью Черного моря. В нашем случае искажение имени легко объясняется смешением сходных в еврейском письме букв бет и коф (отсюда Zubus вм. Zichus и т.п.) (КоКовцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – С. 123, прим. 23). Но у О. О. Прицака ZYBWS это северокавказские черкесы (Гопб Η., ПРιιМАК О. Указ. соч. – С. 155,172).
1610
TWRQW – венгры или скорее турки-огузы (узы, торки).
1611
LWZNYW (Luz-n-u, Luzanija). Название этого народа не имеет точного отождествления (возможно, славянское племя – лужане, лодожане) (Коковцов П. К. Указ. соч. – С. 123, прим. 25). О. О. Прицак предположил, что здесь имеет место ошибочное прочтение арабской записи – LWDM’NY-una – Lo( г )dman ( «северные люди» – «нораманны») (Голб H., Прицак О. Указ. соч. – С. 155, 172).
1612
Подр. см.: Сказания еврейских писателей о хаэарах и хазарском царстве собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1874. – С. 81–82; Гертц Г. История евреев от древнейших времен до настоящего. 2-е изд. – Одесса, 1905. – Т. 6. – С. 272; Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. – Л., 1932. – C. VII, прим. 2; 62, прим. 1 В последнее время еврейско-хазарскую переписку стало принято сводить к началу – середине или второй половине 50-х гг. X в. (cm.: Zuckerman С. On the Date of the Khazar’s Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor // REB. – 1995. – T.53. – R 241; Цукерман К. O происхождении двоевластия y хазар и обстоятельствах их обращения в иудаизм // МАИЭТ. – 2002. – Вып. 9. – С. 526; Цукерман К. Про дату повернення хазар до іудаізму й хронологію князювання Олега та Ігоря // RUTHENICA. – 2003. – Т. 2. – С. 56), хотя в свое время П. К. Коковцов подчеркивал, что такие датировки «совершенно гадательны и не основываются на фактических данных». Столь же неоправдан гиперкритический подход к этим документам как к позднесредневековой фальсификации, попавшей из Крыма в Каир (см.: Бушаков В. А. Етімологізація кримських топонімів у звязку з вивченням історіі Криму // Східний світ. – 1994. – №1/2. – С. 29–33).
1613
В отечественной литературе наиболее употребительны: Письмо Хасдаи Ибн-Шапрута к хазарскому царю Иосифу (около 960 г. no P. X.) // Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве собрал, пер. и объяснил А. Я. Гаркави. – СПб., 1874. – С. 78–83 (введ.), 84–119 (текст и пер.), 120–153 (объяснения); Гаркави А. Сообщения о хазарах. А. Хазарская переписка (По рукописям Имп. Публичной б-ки) // Еврейская библиотека. Историко-литературный сб. / Изд. A. Е. Ландау. – СПб., 1879. – С. 143–165; Бруцкус Ю. Д. Письмо хазарского еврея от X века. – Берлин, 1924; Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… – С. 81–87 (краткая ред.), 98–112 (простран. ред.).
Источник: С. Б. Сорочан. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.) Очерки истории и культуры. Часть III. Университет Дмитрия Пожарского. Москва. 2013
Комментарии для сайта Cackle
Дополните информацию о персоне
| Константин VII Багрянородный | |

|
|
| Другие имена: | Константин VII Порфирогенет |
| Дата рождения: | 18.05.905 |
| Место рождения: | Константинополь |
| Дата смерти: | 09.11.959 |
| Место смерти: | Константинополь |
| Краткая информация: Император Византии (Македонская династия) |
Содержание
- 1 Биография
- 1.1 Царствование
- 1.2 Политическая деятельность
- 1.3 Литературная деятельность
- 1.3.1 Сочинения Константина VII
- 1.4 Изображения
- 2 Библиография
Биография
Константин был сыном Льва VI Философа и Зои Карбонопсины, четвёртой жены императора. Четвёртый брак не дозволялся церковью и родившийся ребёнок считался незаконнорождённым, хотя и был единственным сыном Льва VI. Лишь в январе 906 Константин был крещён, а в апреле 906, против воли патриарха Николая Мистика, Лев и Зоя были обвенчаны. Прозвище Багрянородный происходит от Багряного (Порфирного) зала императорского дворца, где рожали императрицы, и призвано подчеркнуть, что он родился у царствующего монарха.
Царствование
15 мая 908 года Лев VI сделал Константина своим соправителем, чтобы обеспечить ему трон, однако в 912 император умер и власть принял его брат Александр. Однако и он умер через год, оставив 8-летнего Константина под опекой регентов. После неудачного мятежа Константина Дуки в 913 году во главе совета регентов стал патриарх Константинопольский Николай Мистик. В 920 власть узурпировал Роман I Лакапин, провозглашенный соправителем. Ещё в 919 он женил 14-летнего Багрянородного на своей дочери Елене. Константин оказался отстранен от реальной власти и посвятил себя самообразованию и наукам. В 944 Романа I свергли его сыновья, надеясь править самостоятельно, однако это вызвало народные волнения, которые утихли лишь когда императором провозгласили Константина. Через 40 дней их сослали в монастырь.
Умер Константин в 959 году. По некоторым сведениям, он был отравлен своим сыном Романом II Младшим.
Политическая деятельность
В своей политике Константин VII выражал интересы столичного чиновничества, выступая против центробежных тенденций провинциальной знати. Активизировал военные действия против арабов. Начало оказалось неудачным, и посланное на завоевание Крита войско было разбито (949).
Византийские армии перешли Евфрат (952), но были отброшены. Завоевания на Востоке были восстановлены благодаря Никифору Фоке и Иоанну Цимисхию. Высшим достижением ромейского оружия стало взятие Самосаты (958).
Константин VII назначил на должность «паракимомена» (1-го министра) евнуха Василия Лекапена (сына свергнутого императора Романа I), который приобрёл огромное влияние и сохранял его при последующих императорах.
Литературная деятельность
Константин VII также известен, как один из образованнейших людей эпохи, покровитель и издатель компилятивных сборников, автор сочинений «О фемах», «О церемониях», «Об управлении империей», являющихся важнейшими источниками для изучения истории Византии, Руси и других стран.
Он, в частности, описывает («О церемониях»), визит княгини Ольги в Константинополь (957). Девятая глава «Об управлении империей» (около 950) содержит краткое описание экономического и политического устройства Руси.
Сочинения Константина VII
- Константин Багрянородный. Об управлении империей. М. Наука. 1991
- Константин Багрянородный. О церемониях (книга II, гл. 15; второй прием Ольги русской) // Известия государственной академии метериальной культуры. №91. М. ОГИЗ 1934
- Об областях римской империи, сочинение Константина Багрянородного. // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 3. М. 1858
Изображения
Библиография
- Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под. ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. Греческий текст, перевод, комментарии. — Изд. 2-е, исправл. — М., Наука, 1991. — 496 с. — (Древнейшие источники по истории народов СССР)
- Зернин А. П. Жизнь и литературные труды Константина Багрянородного
- Византийский словарь: в 2 т. / [ сост. Общ. Ред. К.А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 504
- Византия / Мишель Каплан. – М. : Вече, 2011. с. 305
- Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия. Константин Рыжов. Москва, 2001
- С. Б. Дашков. Императоры Византии
- Константин VII Порфирогенет
Большинство исторических и литературных памятников X в. в той или иной степени связаны с именем императора Константина VII Багрянородного (905-959), номинально ставшего правителем в 913 г. после смерти в 912 г. своего отца Льва VI и принявшего после него власть Александра (912-913). Но период самостоятельного правления Константна Багрянородного начался лишь в 945 г. после длительного периода, когда властью в государстве распоряжались регенты, один из которых, Роман Лакапин, стал полновластным императором в 920 г. Для одних дошедших до нас произведений император был вдохновителем и инициатором исторических сочинений, в других случаях, вероятно, «редактором», в третьих — имя Константина претендует на авторство. Фигура просвещенного монарха, каким традиционно представляется Константин Багрянородный, во многом определила характер и особенности так называемого «македонского ренессанса» конца IX-X вв. Василевс покровительствовал Магнаврской школе, которую в наше время ученые поспешили назвать университетом; он задумал и осуществил ряд проектов энциклопедического характера.
Эти проекты были связаны с задачей систематизации накопившегося к середине X в. знания — в области права (юридический свод «Василики»), языкового наследия (лексикон «Суда»), сельскохозяйственного опыта («Геопоники»), военных навыков (различные «Тактики»), агиографии («Менологий» Симеона Метафраста). Эти своды определили лик эпохи «византийского энциклопедизма», непосредственно связанной с именем и образом Константина Багрянородного, хотя в ряде случаев его участие в подготовке тех или иных памятников было номинальным и даже легендарным.
Самым объемным трудом историографического характера, дошедшим под именем Константина, стали сборники эксцерптов из античных и ранневизантийских памятников, объединенные тематически в 53 раздела и представляющие собой не только литературно-антикварный интерес, но и практическую ценность. До нас дошла лишь часть собраний — «О посольствах», «О добродетели и пороке», «О заговорах против василевсов», «О полководческом искусстве» и др. В них использован богатый историографический материал, причем ряд текстов, например, таких авторов, как Евнапий, Приск, Малх, Петр Патрикий, Менандр, стал известен лишь благодаря компендиуму Константина Багрянородного. На примерах текстов цитируемых памятников раскрываются как военно-исторические или дипломатические проблемы, так и вопросы идеологии, морали, образа жизни.
Задачами классификации и систематизации определен и характер трактата Константина Багрянородного «О фемах», где на материалах текстов древних исторических и литературно-географических памятников излагается происхождение и структура византийских административно-территориальных округов. Наряду с данными, уходящими в далекое прошлое, в произведении встречаются и сведения, современные эпохе составления трактата.
Авторству Константина приписывает традиция и сочинение «Жизнеописание императора Василия I» — деда багрянородного василевса (Vita Basilii). Этот памятник дошел в составе Хроники Продолжателя Феофана в виде ее пятой книги. Под именем Константина Багрянородного сохранились и другие сочинения — проповедь, речь на перенесение мощей св. Иоанна Златоуста, Послание на перенесение останков Григория Назианзина, литургические стихи, письма, обращения к войску и др.
Как справочно-энциююпедический, так и историко-дидактический характер носят и основные сочинения Константина Багрянородного, известные под условными (как и авторство!) названиями «Об управлении империей«, «О церемониях византийского двора«, а также три воинских трактата. Константин был современником многочисленных важнейших событий международной политики первой половины X в., таких как поход князя Олега на Византию и поход князя Игоря, следствием чего стали первые русско-византийские договоры, известные по «Повести временных лет», а также войн и соглашений с Болгарией эпохи царя Симеона, войн с арабским халифатом с последующим освобождением армянских и иверийских земель от власти ислама и удалением византийских восточных границ к долинам Тигра и Евфрата. Среди дипломатических акций эпохи правления Константина Багрянородного важное место заняла русская политика, увенчавшаяся приемом в Константинополе посольства княгини Ольги. Многие из пережитых Константином событий в той или иной степени получили отражение в сохранившихся под его именем произведениях.
Издания эксцернтов и трудов Константина: Excerpta historica iussu nperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta / Ed. U. Ph. Boisevain, C. De Boor, Th. Buttner-Wobst. Berolini, 1903-1910. Vol. 1-4; Costantino Porfirogenito. De Thematibus / Ed. A. Pertusi. Citta del Vaticano, 1952; Tbeophanes Contmuatus, loannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus / Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1838. P. 211-353; Darrouzes J. Epistoliers byzantins du Xе siecle. Paris, 1960. P. 317-322.
Литература: Dain 1953, T. 12. P. 64-81; Lemerle 1966. P. 596-616; Lemerle 1971; Toynbee 1973; Wosmak 1973; Hunger 1978. Bd. I. S. 360-367; Moravcsik ВТ I. S. 356-390; Sevcenko 1992. S. 167-195; Шевченко 1993. Т. 54. С. 6-38; Семеновкер 1995; Бибиков 1998. С. 94-98.
О ЦЕРЕМОНИЯХ ВИЗАНТИЙСКОГО ДВОРА
Произведение Константина Багрянородного, условно называемое «О церемониях византийского двора», сохранилось в единственном списке имеющем пространное заглавие: «Константина, христолюбивого во Христа самом вечном Царе василевса, сына мудрейшего и приснопамятного василевса Льва, сочинение и во истину царского усердия достойное творение». В трактате досконально расписана режиссура приемов, в том числе иностранных послов, в соответствии с рангом приезжающих. Исторический материал приемов прошлого характеризует правление императоров ЛьваI, Анастасия I, Юстина I, Льва II и Юстиниана I. В предисловии автор пишет об исторической значимости произведения, основанного как на собственных наблюдениях, так и на литературных и архивных источниках.
Для истории Руси первостепенное значение имеет описание приема Константином в византийской столице посольства княгини Ольги. Помимо подробного изложения самой дипломатической процедуры церемонии, автор подробно перечисляет состав русского посольства, суммы, выдаваемые разным его членам в соответствии с рангом гостей.
Издания: Constantinus Porphyrogenitus imperator. De cerimoniis aulae Byzantinae libri 2 / Rec. I. I. Reiske. Bonnae, 1829-1830. Vol. 1-2; Constants VII Porphyrogenete. Le Livre des ceremonies. (Ch. 1-92) / Ed. A. Voft. Paris. 1935-1939. T. 1-2.
Перевод:
Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.) СПб., 2000. С. 360-364.
Литература: Успенский 1898. Т. 3. С. 98-137; Вигу 1907. Vol. Р. 209-227, 417-439; Treitinger 1956; Острогорский 1967. Vol. 7. Р. 1458-1473; Пашуто 1968. С. 66 и сл.; Ариньон 1980. Т. 41. С. 113-24; Литаврин 1981. Т. 42. С. 35-48; Литаврин 1981а. № 5. С. 173-183; Литаврин 1981b. С. 72-92; Литаврин 1982. S. 134-143; Arignon 1983. Т. 55 (1). Р. 129-137; Obolensky 1983. Vol. 28, № 2. P. 157-171; Cbolensky 1984. P. 159-176; Литаврин 1985. С. 49-57; Pritsak 1985. Vol. 9. № 1/2. P. 5-24; Литаврин 1986a. № 6. C. 41-52; Tinnefeld 1987. Bd. VI. 1. S. 30-37; Obolensky 1988-1989. P. 145-158; Литаврин 1989. T 50. C. 83-84; Назаренко 1990. С. 24-40; Featherstone 1990. Vol. 14. 3/4. P. 293-312; Назаренко 1989. Т. 50. С. 66-83; Брайчевский 1991. С. 12-20; Рорре 1992. Vol. 46. Р. 271-277; Назаренко 1994. С. 154-168; Franklin, Shepard 1996. P. 134-139; Литаврин 1999. С. 421-452; Литаврин 2000. С. 154-213.
КОНСТАНТИНА, ХРИСТОЛЮБИВОГО ВО ХРИСТЕ
САМОМ ВЕЧНОМ ЦАРЕ ВАСИЛЕВСА, СЫНА МУДРЕЙШЕГО
И ПРИСНОПАМЯТНОГО ВАСИЛЕВСА ЛЬВА,
СОЧИНЕНИЕ И ВО ИСТИНУ ЦАРСКОГО УСЕРДИЯ ДОСТОЙНОЕ ТВОРЕНИЕ

Мы решили все то, что самими нами видено и в наши дни принято, тщательно выбрать из множества источников и представить для удобного обозрения в этом труде тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших отцов, и, подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской пышности для ее чистого благолепия.
Другой прием — Эльги1 Росены2.
Девятого сентября, в четвертый день [недели], состоялся прием по прибытии Эльги архонтиссы3 Росии. Сия архонтисса вошла с близкими, архонтиссами-родственницами и наиболее видными из служанок. Она шествовала впереди всех прочих женщин, они же по порядку, одна за другой, следовали за ней. Остановилась она на месте, где логофет4 обычно задает вопросы. За ней вошли послы и купцы архонтов Росии и остановились позади у занавесей. Все дальнейшее было совершено в соответствии с вышеописанным приемом.
Выйдя снова через Анадендрарий5 и Триклин кандидатов6, а также триклин, в котором стоит камелавкий7 и в котором посвящают в сан магистра, она прошла через Онопод и Золотую руку, т.е. портик Августия, и села там. Когда же василевс8 обычным порядком вступил во дворец, состоялся другой прием следующим образом.
В Триклине Юстиниана9 стоял помост, украшенный порфирными дионисийскими тканями, а на нем — большой трон василевса Феофила, сбоку же — золотое царское кресло. За ним, позади двух занавесей, стояли два серебряных органа двух партий, ибо их трубы находились за занавесями. Приглашенная из Августия, архонтисса прошла через Апсиду, ипподром и внутренние переходы самого Августия и, придя, присела в Скилах10. Деспина11 между тем села на упомянутый выше трон, а ее невестка — в кресло. И [тогда] вступил весь кувуклий12, и препозитом13 и остиарием14 были введены вилы15: вила первая — зост, вила вторая — магистриссы, вила третья — патрикиссы, вила четвертая — протоспафариссы-оффикиалы, вила пятая — прочие протоспафариссы, вила шестая — спафарокандидатиссы, вила седьмая — пафариссы, страториссы и кандидатиссы16.
Итак, лишь после этого вошла архонтисса, введенная препозитом и двумя остиариями. Она шла впереди, а родственные ей архонтиссы и наиболее видные из ее прислужниц следовали за ней, как и прежде было упомянуто. Препозит задал ей вопрос как бы от лица августы17 и, выйдя, она [снова] присела в Скилах.
Деспина же, встав с трона, прошла через Лавсиак и Трипетон18 и вошла в Кенургий19, а через него в свой собственный китон20. Затем тем же самым путем архонтисса вместе с ее родственницами и прислужницами вступила через [Триклин] Юстиниана, Лавсиак и Трипетон в Кенургий и [здесь] отдохнула.
Далее, когда василевс с августой и его багрянородными детьми уселись, из Триклина Кенургия была позвана архонтисса. Сев по повелению василевса, она беседовала с ним, сколько пожелала.
В тот же самый день состоялся клиторий21 в том же Триклине Юстиниана. На упомянутый выше трон сели деспина и невестка. Архонтисса же стояла сбоку. Когда трапезит22 по обычному чину ввел архонтисе и они совершили проскинесис23, архонтисса, наклонив немного голову, села к апокопту24 на том же месте, где стояла, вместе с зостами, по уставу. Знай, что певчие, апостолиты и агиософиты25, присутствовали на этом клитории, распевая василикии26. Разыгрывались также и всякие театральные игрища.
А в Хрисотриклине27 [в то же время] происходил другой клиторий, где пировали все послы архонтов Росии, люди и родичи архонтиссы и купцы. [После обеда] получили: анепсий28 ее 30 милиарисиев29, 8 ее людей — по 20 милиарисиев, 20 послов — по 12 милиарисиев, 43 купца — по 12 милиарисиев, священник Григорий — 8 милиарисиев, 2 переводчика — по 12 милиарисиев, люди Святослава — по 5 милиарисиев, 6 людей посла — по 3, переводчик архонтиссы — 15 милиарисиев.
После того как василевс встал от обеда, состоялся десерт в Аристирии30, где стоял малый золотой стол, установленный в Пентапиргии31. На этом столе и был сервирован десерт в украшенных жемчугами и драгоценными камнями чашах.
Сидели [здесь] василевс, Роман32 — багрянородный василевс, багрянородные их дети, невестка и архонтисса. Было вручено: архонтиссе в золотой, украшенной драгоценными камнями чаше — 500 милиарисиев, 6 ее женщинам — по 20 милиарисиев и 18 ее прислужницам — по 8 милиарисиев.
Княгиня Ольга у императора Константина VII
Восемнадцатого сентября, в воскресенье, состоялся клиторий в Хрисотриклине. Василевс сидел [здесь] с росами. И другой клиторий происходил в Пентакувуклии св. Павла, где сидели деспина с багрянородными ее детьми, с невесткой и архонтиссой. И было выдано: архонтиссе — 200 милиарисиев, ее анепсию — 20 милиарисиев, священнику Григорию — 8 милиарисиев, 16 ее женщинам — по 12 милиарисиев, 18 ее рабыням — по 6 милиарисиев, 22 послам — по 12 милиарисиев, 44 купцам — по 6 милиарисиев, двум переводчикам — по 12 милиарисиев.
(Перевод Г.Г. Литаврина С. 360-364)
ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМПЕРИЕЙ
Важнейшее с историографической точки зрения сочинение, сохранившееся под именем Константина Багрянородного, со времен первого издания в 1611 г. условно называется «Об управлении империей», хотя единственная рукопись византийского времени, сохранившая текст (Cod. Paris, gr. 2009 XI в.), имеет распространенную лемму «Константина, во Христе, царе вечном, василевса ромеев, к сыну своему Роману, боговенчанному и багрянородному василевсу». Таким образом, трактат представляет собой обращение к сыну — будущему императору Роману II (правил с 959 по 963 гг.). Наставление, в котором Константин рассматривает систему взаимоотношений империи с окружавшими ее народами с точки зрения политической выгоды для Византии, определяет способ подчинения каждого из этих народов и предупреждает о возможных претензиях «варваров» к Византии, а также дает представление о происхождении, обычаях, природных условиях жизни интересующих империю народов.
Вся часть сочинения Константина Багрянородного от гл. 1.16 до гл. 13.11, за исключением гл. 9, представляет собой изложение практики византийской дипломатии по отношению к северным соседям империи — печенегам, узам, хазарам, аланам, росам, болгарам и венграм. Это своего рода «практический урок» византийской внешней политики. Относительно реальности отражения здесь внешнеполитической ситуации середины X в. у византинистов нет единогласия: так, одни (Г. Манойлович, В. Греку) отмечали учебно-дидактический а другие (П. Лемерль) — книжный, учено-энциклопедический характер произведения. Однако анализ сведений Константина о кочевниках Северного Причерноморья убеждает в актуальном характере приводимых в трактате данных для изучения византийской внешней политики в середине X в., хотя о конкретных источниках информации Константина можно говорить лишь в отдельных случаях и в основном предположительно.
Константин начинает обзор внешнеполитического положения Византии с характеристики взаимоотношений с печенегами. Именно в этой связи Константин впервые здесь говорит и о Руси, сообщая, что печенеги «стали соседними и сопредельными также росам, и частенько когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб», а также, «что росы озабочены тем, чтобы иметь мир с пачинакитами». Константин говорит о русско-печенежской торговле. Автор трактата анализирует военно-политический потенциал Руси в комплексе ее взаимоотношений с Византией и печенегами.
Девятая глава, превышающая по объему другие разделы начальной части произведения, посвящена Руси, точнее, — описанию пути «из варяг в греки» и рассказу о том, с чем сталкивается путешественник. Перечисляются русские города — Новгород, Смоленск, Любеч, Чернигов, Вышгород, Киев, Витичев; называются русские князья — Игорь и Святослав; подробно рассказывается о взаимоотношениях княжеской дружины («росы») со славянским населением различных племен описываемой территории; рассказывается о полюдье. Полюдье Константин воспроизводит в славянском звучании слова, проявляя здесь свойственный ему интерес к языкам народов, описываемых им. Так, все известные днепровские пороги называются как «по-росски» (указывается скандинавское имя), так и «по-славянски», где передается русский эквивалент наименования. Называет автор трактата и славянское слово «заканы» (законы).
Константин различает «Внешнюю Русь», под которой подразумевал Северную («Новгородскую») Русь, и Русь в собственном, узком, смысле слова — как территорию сбора дани старшим князем, т.е. Киевскую Русь. Среди славянских племен, подвластных Руси, названы кривичи, лендзяне, древляне, дреговичи, северяне. Из описания Константином становится ясно, что киевский князь уже в середине X в. «сажал» на новгородский стол сына — потенциального преемника.
Среди свидетельств этнокультурного содержания важно описание явыческнх жертвоприношений росов на о. Хортица на пути в Византию.
Продолжение 13 главы посвящено Венгрии и другим странам Центральной Европы. В этом разделе, помимо прочего дается совет, как следует отвечать хазарам, венграм или русским, или другим «северным» и «скифским» народам — на их нередкие просьбы о предоставлении им императорских регалий, считавшихся привилегией лишь в пантийских императоров. Также отказом предлагается отвечать и на домогательства «варварских» правителей о династических браках с императорскими родственниками. Там же повествуется о греческом огне — важнейшем секретном оружии византийского флота в сражениях с врагами.
Следующие главы (14-42) «Об управлении империей» посвящены писанию земель, истории, обычаев арабов, далее — Испании, Италии, Далмации, Хорватии, Сербии. Ряд эпизодов относятся к истории аваров и болгар на рубеже IХ/Х вв. Вновь повествование касается теченегов, венгров и хазар, их происхождения, древнейшей истории, асселения, племенной этнологии. В этой же части трактата содержится рассказ о Моравии и ее правителе Святополке. Завершается раздел этно-географической главой, названной «Землеописание от Фессалоники до реки Дунай и крепости Белград, до Туркии (=Венгрии. — М.Б.) и Пачинакии, до хазарской крепости Саркел, до Росии и до Некропил, находящихся на море Понт, близ реки Днепр, до Херсона вместе с Боспором, в которых находятся крепости климатов; затем — до озера Меотида, называемого из-за его величины также морем, вплоть до крепости Таматарха, а к сему — и до Зихии, Папагии Касахии, Алании и Авасгии — вплоть до крепости Сотириуполь» Описание Северного Причерноморья, включая земли Приазовья, Приднепровья, Крыма, Тмутаракани, Северокавказского побережья и областей вплоть до современного Сухуми («Сотириуполь»), относится ко времени после 906 г.
Главы 43-46 содержат подробные, подчас уникальные, сведения о Закавказье, о землях армян и грузин на основании современных Константину Багрянородному данных. Далее две главы связаны с Кипром.
Следующий раздел трактата (гл. 49-53) посвящен византийским областям, в том числе Херсону в Крыму, их этническому состав} (в частности, расселению славян на Пелопоннесе), административной структуре империи, историческим изменениям в условиях провинциального управления и другим внутренним историческим и политическим сюжетам истории Византии от глубокой древности до времени составления трактата.
Временем составления произведения считается середина X в., период между 948 и 952 гг.
В примечаниях к публикуемым фрагментам этого сочинения Константина использованы комментарии русского издания 1991 г. (см. ниже).
Издания: Constantme Porphyrogenitus. De administrando impeno / Ed. by Gy. Moravcsik, transl. by R. J. H. Jenkins. Washington, 1967 [Vol. 1]; Comm by R. J. H. Jenkins, D. Obolensky, E Dvornik a. o. London, 1962 [Vol. 2].
Издание и перевод: Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, пер., комм. / Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1991.
Литература: Вигу 1906. Bd. 15. S. 517-557; Расовский 1933. Т. 6. С. 1-66; Ostrogorsky 1936. Т. 8. S. 41-61; Приселков 1941. С. 215-246. Vernadsky 1943; Vasiliev 1951. Vol. 6. P. 160-225; Stender-Petersen 1953, Shevelov 1955. Vol. 11. № 4. P. 503-530; Левченко 1956; Толкачев 1962 С. 29-60; Sorlin 1965. Vol. 6. № 2. P. 147-188; Златарски 1967-1971. Т. 1. Ч. 1-2; Пашуто 1968; Obolensky 1971; Toynbee 1973; Wosniak 1973. Иванов, Топоров 1974; Дуйчев 1976. С. 31-34; Коледаров 1977. № 3 С. 50-64; Сахаров 1980; Дюно, Ариньон 1982. Т. 43 С. 64-73; Рыбаков 1982; Седов 1982; Moravcsik ВТ I. S. 361-379; Иванова, Литаврин 1985. С. 34-98; Ловмянъский 1985; Литаврин 1999; Литаврин 2000.
КОНСТАНТИНА, ВО ХРИСТЕ ЦАРЕ ВЕЧНОМ,
ВАСИЛЕВСА РОМЕЕВ, К СЫНУ СВОЕМУ РОМАНУ,
БОГОВЕНЧАННОМУ И БАГРЯНОРОДНОМУ

Итак, послушай34, сын, то, что, как мне кажется, ты [обязан] знать; обрети разумение35, дабы овладеть управлением. Ведь и всем прочим я говорю, что знание есть благо для подданных, в особенности же для тебя, обязанного печься о спасении всех и править и руководить мировым кораблем. А если36 я воспользовался ясной и общедоступной речью37, как бы беспечно текущей обыденной прозой, для изложения предстоящего, не удивляйся нисколько, сын мой. Ведь не пример каллиграфии или аттикизирующего стиля38, торжественного и возвышенного, я старался представить, а заботился более чтобы через простое и обиходное39 повествование наставить тебя в том, о чем, по моему мнению, тебе не должно пребывать в неведении и что легко тебе может доставить тот разум и мудрость, которые обретаются в длительном опыте.
Я полагаю всегда весьма полезным для василевса ромеев желать мира с народом40 пачинакитов, заключать с ними дружественные соглашения и договоры, посылать отсюда к ним каждый год апокрисиария41 с подобающими и подходящими дарами для народа и забирать оттуда омиров, т.е. заложников42, и апокрисиария, которые прибудут в богохранимый этот град43 вместе с исполнителем сего дела44 и воспользуются царскими благодеяниями и милостями, во всем достойными правящего василевса.
Поскольку этот народ пачинакитов соседствует45 с областью Херсона46, то они, не будучи дружески расположены к нам, могут выступать против Херсона, совершать на него набеги и разорять и самый Херсон, и так называемые Климаты47.
2. О пачинакитах и росах
[Знай], что пачинакиты стали соседними и сопредельными48 также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб.
[Знай], что и росы озабочены тем, чтобы иметь мир с пачинакитами. Ведь они покупают49 у них коров, коней, овец и от этого живут легче и сытнее, поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Росии не водилось50. Но и против удаленных от их пределов врагов51 росы вообще отправляться не могут, если не находятся в мире с пачинакитами, так как пачинакиты имеют возможность — в то время когда росы удалятся от своих [семей], — напав, все у них уничтожить и разорить. Поэтому росы всегда питают особую заботу, чтобы не понести от них вреда, ибо силен этот народ, привлекать их к союзу и получать от них помощь, так чтобы от их вражды избавляться и помощью пользоваться.
[Знай], что и у царственного сего града52 ромеев, если росы не находятся в мире с пачинакитами, они появиться не могут, ни ради войны, ни ради торговли, ибо, когда росы с ладьями приходят к речным порогам и не могут миновать их иначе, чем вытащив свои ладьи из реки и переправив, неся на плечах, нападают тогда на них люди этого народа пачинакитов и легко — не могут же росы двум трудам противостоять53 — побеждают и устраивают резню.
3. О пачинакитах и турках54
[Знай], что и турок род весьма страшится и боится упомянутых пачикитов потому, что был неоднократно побеждаем ими55 и предан почти полному уничтожению, оттого турки всегда страшными считают пачинакитов и трепещут перед ними.
4. О пачинакитах, росах и турках
[Знай], что пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами56, ни росы, ни турки не могут нападать на державу ромеев по закону войны, а также не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев Пачинакиты, связанны дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами57 и дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жен и детей, разорять их землю58.
5. О пачинакитах и булгарах59
[Знай], что и булгарам более страшным казался бы василевс ромеев и мог бы понуждать их к спокойствию, находясь в мире с пачинакитами60, поскольку и с этими булгарами соседствуют названные пачинакиты61 и, когда пожелают, либо ради собственной корысти, либо в угоду василевсу ромеев, могут легко выступать против Булгарии62 и, благодаря своему подавляющему большинству и силе, одолевать тех и побеждать. Поэтому и булгары проявляют постоянное старание и заботу о мире и согласии с пачинакитами. Так как [булгары] многократно были побеждены и ограблены ими, то по опыту узнали, что хорошо и выгодно находиться всегда в мире с пачинакитами.
6. О пачинакитах и херсонитах
[Знай], что и другой народ из тех же самых пачинакитов63 находится рядом с областью Херсона. Они и торгуют с херсонитами, и исполняют поручения как их, так и василевса и в Росии, и в Хазарии64, и в Зихии65, и во всех тамошних краях, получая, разумеется, от херсонитов заранее согласованную плату за эту самую услугу, соответственно важности поручения и своим трудам, как-то: влаттии, прандии, харерии, пояса, перец66, алые кожи парфянские и другие предметы, требуемые ими, как о том каждый херсонит сумеет договориться с любым из пачинакитов при соглашении или уступит его настояниям. Ведь, будучи свободными и как бы самостоятельными, эти самые пачинакиты никогда и никакой услуги не совершают без платы.
Флот росов. Миниатюра Мадридского списка Хроники Иоанна Скилицы
7. О василиках67, посылаемых68 из Херсона в Пачинакию69
Всякий раз, когда василик переправится в Херсон ради подобного поручения, он должен тотчас послать [вестника] в Пачинакию и потребовать от них заложников и охранников70. Когда они прибудут, то заложников оставить под стражей в крепости Херсона, а самому с охранниками отправиться в Пачинакию и исполнить порученное. Эти самые пачинакиты, будучи ненасытными и крайне жадными до редких у них вещей, бесстыдно требуют больших подарков: заложники домогаются одного для себя, а другого для своих жен, охранники — одного за свои труды, а другого за утомление их лошадей. Затем, когда василик вступит в их страну, они требуют прежде всего даров василевса и снова, когда ублажат своих людей, просят подарков для своих жен и своих родителей. Мало того, те, которые ради охраны возвращающегося к Херсону василика приходят с ним, просят у него, чтобы он вознаградил труд их самих и их лошадей71.
8. О василиках посылаемых из богохранимого града в Пачинакию с хеландиями72 по рекам Дунай73, Днепр и Днестр74
[Знай], что и в стороне Булгарии75 расположился народ пачинакитов по направлению к области Днепра, Днестра и других там имеющихся рек. Когда послан отсюда василик с хеландиями, то он может, не отправляясь в Херсон, кратчайшим путем и быстрее найти здесь тех же пачинакитов, обнаружив которых, он оповещает их через своего человека, пребывая сам на хеландиях, имея с собою и охраняя на суда царские вещи. Пачинакиты сходятся к нему, и, когда они сойдутся, василик дает им своих людей в качестве заложников, но и сам получает от пачинакитов их заложников и держит их в хеландиях. А затем он договаривается с пачинакитами. И, когда пачинакиты принесут василику клятвы по своим «заканам»76, он вручает им царские дары и принимает «друзей»77 из их числа, сколько хочет, а затем возвращается. Так-то нужно договариваться с ними, чтобы, когда у василевса явится потребность в них, они бы исполнили службу будь то против росов либо против булгар, либо же против турок, либо они в состоянии воевать со всеми ими и, многократно нападая на них78, стали ныне [им] страшными. Ясно это также из следующего. Когда клирик Гавриил как-то был послан к туркам79 по повелению василевса и сказал им: «Василевс заявляет вам80, чтобы вы отправились и прогнали пачинакитов с мест их, а вы расположились бы вместо них, так как прежде там располагались, — дабы находиться близ царственности моей и дабы, когда я того пожелаю, я отправлял послов и вскорости находил вас», — то все архонты81 турок воскликнули в один голос: «Сами мы не ввяжемся в войну с пачинакитами, так как не можем воевать с ними82, — страна [их] велика, народ многочислен, дурное это отродье. Не продолжай перед нами таких речей — не по нраву они нам»83.
[Знай], что пачинакиты с наступлением весны переправляются с той стороны реки Днепра и всегда здесь проводят лето84.
9. О росах85, отправляющихся с моноксилами86 из Росии87 в Константинополь
[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии88 в Константинополь моноксилы являются89 одни из Немогарда90, в котором сидел91 Сфендослав92, сын Ингора93, архонта Росии94, а другие из крепости Милиниски95, из Телиуцы96, Чернигоги97 и из Вусеграда98. Итак, все они пускаются рекою Днепр99 и сходятся в крепости Киоава100, называемой Самватас101. Славяне же, их паьсгиоты102, а именно: кривитеины103, лензанины104 и прочие Славинии105 — рубят в своих горах106 моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам, Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают их107. И в июне месяце108, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву109, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы110, тогда отбавляются в путь и спускаются по названной реке Днепр111. Прежде всего они приходят к первому порогу112, нарекаемому Эссупи, что означает по-росски и по-славянски «Не спи»113. Порог [этот] столь же узок, как пространство циканистирия114, а посередине его имеются обрывистые высокие скалы, торчащие наподобие островков. Поэтому набегающая приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, издает громкий страшный гул.
Русский флот. Миниатюра Радзивилловской летописи
Ввиду этого росы не осмеливаются проходить между скалами, но, причалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив в моноксилах, затем нагие, ощупывая своими ногами [дно, волокут их]115, чтобы не натолкнуться на какой-либо камень. Так они делают, одни у носа, другие посередине, а третьи у кормы, толкая116 [ее] шестами, и с крайней осторожностью они минуют этот первый порог, по изгибу у берега реки. Когда они пройдут этот первый поре то снова, забрав с суши прочих, отплывают и приходят к другому порогу, называемому по-росски Улворси, а по-славянски Островуниира, что значит «Островок порога»117. Он подобен первому, тяжек и трудно проходим. И вновь, высадив людей, они проводят моноксилы, как и прежде. Подобным же образом минуют они и третий порог, называемый Геландри, что по-славянски означает «Шум порога»118, а затем так же — четвертый порог, огромный, нарекаемый по-росски Аифор, по-славянски же Неасит, так как в камнях порога гнездятся пеликаны119. Итак, у этого порога все причаливают к земле носами вперед, с ними выходят назначенные для несения стражи мужи и удаляются. Они неусыпно несут стражу из-за пачинакитов120. А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах121, проводят рабов122 в цепях по суше на протяжении шести миль123, пока не минуют порог. Затем также одни волоком, другие на плечах, переправив свои моноксилы по сю сторону порога, столкнув их в реку и внеся груз, входят сами и снова отплывают. Подступив же к пятому порогу, называемому по-росски Варуфорос, а по-славянски Вулнипрах124, ибо он образует большую заводь125, и переправив опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-росски Леанди, а по-славянски Веручи, что означает «Кипение воды»126, и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-росски Струкун, а по-славянски Напрези, что переводится как «Малый порог»127. Затем достигают так называемой переправы Крария128, через которую переправляются херсониты, [идя] из Росии129, и пачинакиты130 на пути к Херсону131. Эта переправа имеет ширину ипподрома132, а длину, с низа до того [места], где высовываются подводные скалы133, — насколько пролетит стрела пустившего ее отсюда дотуда. Ввиду чего к этому месту спускаются пачинакиты и воюют против росов134. После того как пройдено это место, они достигают острова, называемого Св. Григорий135. На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они и жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми136. От этого острова росы не боятся пачинакита137, пока не окажутся в реке Селина138. Затем, продвигаясь таким образом от [этого острова] до четырех дней, они плывут, пока не достигают залива реки, являющегося устьем, в котором (лежит остров Св. Эферий). Когда они достигают этого острова, то дают там себе отдых до двух-трех дней. И снова они переоснащают свои моноксилы всем тем нужным, чего им недостает: парусами, мачтами, кормилами, которые они доставили [с собой]. Так как устье этой реки является, как сказано, заливом и простирается вплоть до моря, а в море лежит остров Св. Эферий, оттуда они отправляются к реке Днестр и, найдя там убежище, вновь там отдыхают139. Когда же наступит благоприятная погода, отчалив, они приходят в реку, называемую Аспрос140, и, подобным же образом отдохнув и там, снова отправляются в путь и приходят в Селину, и так называемый рукав реки Дунай. Пока они не минуют реку Селина, рядом с ними следуют пачинакиты. И если море, как это часто бывает, выбросит моноксил на сушу, то все [прочие] причаливают, чтобы вместе противостоять пачинакитам. От Селины же они не боятся никого, но, иступив в землю Булгарии, входят в устье Дуная141. От Дуная они прибывают в Конопу142, а от Конопы — в Констанцию143… к реке Варна144; от Варны же приходят к реке Дичина145. Все это относится к земле Булгарии146. От Дичины они достигают области Месемврии147 — тех мест, где завершается их мучительное и страшное, невыносимое и тяжкое плавание. Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты148 выходят со всеми росами149 из Киава и отправляются в полюдия, что именуется «кружением»150, а именно — в Славинии вервианов151, другувитов152, кривичей, севериев153 и прочих славян154, которые являются пактиотами росов155. Кормясь156 там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля157, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав. Потом так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы, они оснащают [их] и отправляются в Романию158.
[Знай], что узы могут воевать с пачинакитами159.
10. О Хазарии160, как нужно и чьими силами воевать [с нею]
[Знай], что узы способны воевать с хазарами, поскольку находятся с ними в соседстве, подобно тому как и эксусиократор Алании161.
[Знай], что девять Климатов Хазарии162 прилегают к Алании и может алан, если, конечно, хочет, грабить их отселе и причинять великий ущерб и бедствия хазарам, поскольку из этих девяти Климатов являлись вся жизнь и изобилие Хазарии.
11. О крепости Херсон и крепости Боспор163
[Знай], что эксусиократор Алании не живет в мире с хазарами, но более предпочтительной считает дружбу василевса ромеев, и, когда хазары не желают хранить дружбу и мир в отношении василевса, он может сильно вредить им, и подстерегая на путях, и нападая на идущих без охраны при переходах к Саркелу164, к Климатам и к Херсону. Если этот эксусиократор постарается препятствовать хазарам165, то длительным и глубоким миром пользуются и Херсон, и Климаты, так как хазары, страшась нападения аланов, находят небезопасным поход с войском на Херсон и Климаты и, не имея сил для войны одновременно против тех и других, будут принуждены хранить мир.
Крепость Херсонеса
12. О Черной Булгарии166 и о Хазарии
[Знай], что так называемая Черная Булгария может воевать с хазарами.
37. О народе пачинакитов167
Да будет известно, что пачинакиты сначала имели место своего обитания на реке Атил, а также на реке Геих168, будучи соседями и хазар, и так называемых узов169. Однако пятьдесят лет назад170 упомянутые узы, вступив в соглашение с хазарами и пойдя войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной их страны, и владеют ею вплоть до нынешних времен так называемые узы171. Пачинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего поселения. Достигнув земли, которой они обладают и ныне172, обнаружив на ней турок, победив их в войне и вытеснив, они изгнали их173, поселились здесь и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего дня уже в течение пятидесяти пяти лет174.
Да будет ведомо, что вся Пачинакия делится на восемь фем175, имея столько же великих архонтов. А фемы таковы176: название первой фемы Иртим, второй — Цур, третьей — Гила, четвертой — Кулпеи, пятой — Харавои, шестой — Талмат, седьмой — Хопон, восьмой — Цопон. Во времена же, в какие пачинакиты были изгнаны из своей страны, они имели архонтами в феме Иртим Ваицу, в Цуре — Куела, в Гиле Куркутэ, в Кулпеи — Ипаоса, в Харавои — Каидума, в феме Талмат Косту, в Хопоне — Гиаци, а в феме Цопон — Батана. После смерти этих власть унаследовали их двоюродные братья, ибо у них утвердились законы и древний обычай, согласно которым они не имели права передавать достоинство детям или своим братьям; довольно было для владеющих им и того, что они правили в течение жизни. После же их смерти должно избирать или их двоюродного брата, или сыновей двоюродных братьев, чтобы достоинство не оставалось постоянно в одной ветви рода, но чтобы честь наследовали и получали также и родичи по боковой линии. Из постороннего же рода никто не вторгается и не становится архонтом. Восемь фем разделяются на сорок частей, и они имеют архонтов более низкого разряда.
Должно знать, что четыре рода пачинакитов, а именно: фема Куарцицур, фема Сирукалпеи, фема Вороталмат и фема Вулацопон, — расположены по ту сторону реки Днепра по направлению к краям [соответственно] более восточным и северным177, напротив Узии, Хазарии, Алании, Херсона и прочих Климатов178. Остальные же четыре рода располагаются по сю сторону реки Днепра, по направлению к более западным и северным краям, а именно: фема Гиазихопон соседит с Булгарией, фема Нижней Гилы соседит с Туркией, фема Харавои соседит с Росией, а фема Иавдиертим соседит с подплатежными стране Росии местностями, с ультинами179, дервленинами180, лензанинами181 и прочими славянами. Пачинакия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути, от Алании — на шесть дней, от Мордии182 — на десять дней, от Росии — на один день, от Туркии — на четыре дня, от Булгарии — на полдня183, к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе.
Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и решению остались на месте, живут вместе с так называемыми узами и поныне находятся среди них, имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от тех и чтобы показать, кем они были и как случилось, что они отторгнуты от своих): ведь одеяние свое они укоротили до колен, а рукава обрезали от самых плеч, стремясь этим как бы показать, что они отрезаны от своих и от соплеменников184.
Должно знать, что по сю сторону реки Днестра, в краю, обращенном к Булгарии, у переправ через эту реку, имеются пустые крепости: первая крепость названа пачинакитами Аспрон, так как ее камни кажутся совсем белыми; вторая крепость Тунгаты, третья крепость Кракнакаты, четвертая крепость Салмакаты, пятая крепость Сакакаты, шестая крепость Гиэукаты185. Посреди самих строений древних крепостей обнаруживаются некие признаки церквей и кресты, высеченные в песчанике, поэтому кое-кто сохраняет предание, что ромеи некогда имели там поселение.
Должно знать, что пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар.
(Перевод Г.Г. Литаврина. С. 33-53, 155-159)
Дата публикации: 13.03.2019 г.
в раздел
КОММЕНТАРИИ
1
Княгиня Ольга.
2
Т.е. «Русской».
3
Обычное в Византии наименование иноземных князей и правителей.
4
Логофет дрома — начальник ведомства почт, коммуникаций, внешних связей.
5
Оранжерея.
6
Зал императорского дворца.
7
Вид имераторского венца.
8
Император Константин VII Багрянородный.
9
Зал Юстиниана II.
10
Строение, примыкающее к Триклину Юстиниана.
11
Императрица Елена.
12
Дворцовые евнухи.
13
Начальник кувуклия.
14
Привратник.
15
Вельможи различного ранга.
16
Перечислены жены всех титулярных особ.
17
Т.е. императрицы.
18
Путь через вестибюль Хрисотриклина.
19
Так называемое «Новое строение» во дворце.
20
Покои императрицы.
21
Званый обед.
22
Распорядитель пира.
23
Ритуальное простирание ниц перед императором.
24
Стол для высших персон.
25
Т.е. певчие храмов св. Апостолов и св. Софии.
26
Панегирики в честь василевса.
27
«Золотой зал» дворца.
28
Племянник или двоюродный брат.
29
Серебряная монета, одна тысячная золотого фунта.
30
Зал для завтрака.
31
Зал, где выставлялись сокровища.
32
Сын Константина VII Багрянородного, будущий император Роман II (959-963).
33
Речь идет о печенегах (тюрк Becenek) У Константина зафиксирована и другая форма этнонима — «пачинаки» (Moravcsik ВТ II S 247-248), получившая потом широкое распространение в византииской традиции и ставшая регулярной для обозначения печенежских племен.
34
Ср.: Притч 1:8.
35
Ср.: Притч 1:5.
36
Ср.: Const. Porph. De cerem. P. 5.2-4.
37
Константин утверждает принцип простоты и ясности стиля изложения.
38
О значении античной словесности как образца для византийской риторики см.: Hunger 1969/1970 Р. 17-38, Beck 1982 S. 147 ff.
39
Ср.: Const. Porph. De them P. 82.13; 83.21.
40
Термин «этнос» применялся к этническим группам населения противопоставлявшимся ромеям. Для византиицев — это иноверцы и язычники (ср.: Const. Porph. De eerem P. 58.13-16) или иноземцы например, франки (ср.: Ibid. Р. 749.12-13) болгары (ср.: Leon. Diac. Hist. Р. 79.6-7) См.: Treitmger 1956 S. 78-79; Lechner 1954 S. 51. О политической теории, которой руководствовались византиицы в отношениях с чужеземцами, см.: Ostrogorsky 1936 S. 49-53.
41
Здесь: посланник. Как обозначение секретарской должности термин зафиксирован в VI в. в Оксиринхских папирусах (Oxyrhmchus Papyri. 1898 Р. 144.15), но и в ранневизантийских источниках употреблялся в значении «вестник», «посланник», «посол» (см., например, у Исидора Пелусиога — PG 77. Col. 1225 А)
42
Этот заимствованный из латинского языка термин (лат. obses) (ср.: 1.21; 7.5 и след.; 8.13 и след.; 45.142) употреблялся для обозначения заложников в византииских памятниках и до Константина Багрянородного.
43
Об эпитетах применявшихся по отношению к Константинополю, см.: Fenster 1968 passim.
44
По Д. Моравчику, это куратор апокрисиария Функции апокрисиария зависели и от ранга того, кого он представлял, и от ранга того, к кому он был послан. Различались светские и церковные апокрисиарии. Среди первых можно выделить царских и воинских посланников, среди вторых — патриарших, епископских, монастырских и т.п. В обязанности апокрисиариев входили и функции наблюдателей.
45
Ср.: DAI. 6.2-3, 37.49. О терминах, обозначающих понятия географической близости. см.: Дюно, Ариньон 1982 С. 69-73.
46
«Округ» — здесь очевидно соответствует техническому термину «фема» (см.: Pertus 1958 passimi, Karayannopoulos 1959 S. 1Off). Фема, официально называвшаяся «Климаты» (см. коммент. 15 к гл. 1), именовалась и по ее столице — Херсону (ср. Const. Porph. De them P. 98-100: 182-183; DAI 42.39-54). Оставшись в стороне от движения варваров (прежде всего гуннов), Херсон (античныи Херсонес) в IV-V вв. сохранял значение восточного форпоста Восточно-Римскои империи. Для локализации «Печенегии» в южнорусских степях в первой половине X в. существенно, что связи Византии с печенегами около 917 г. (миссия Иоанна Вогаса; см. коммент 1 к гл. 1) осуществлялись через Херсон (Theoph Cont. Р. 390.1, Georg. Men. Cont. P. 807 Zonar Epit. P. 464.14-15). По-видимому, основная масса печенегов располагалась к северу от Крымского полуострова в междуречье Дона и Днепра.
47
Официальное название фемы Херсона (см. в «Тактиконе Успенского» Oikonomides. 1972 Р. 115). Фема занимала южную часть Крымского полуострова (Vasiliev 1936 Р. 117 Philippson 1939 S. 122). Сам термин «Климаты» связан с идущими от позднеантичной традиции представлениями о горизонтальном делении поверхности земли на некие «климатические», т.е. широтные, зоны (обычно выделялось семь «Климатов») (Homgmarm. 1929).
48
Ср.: DAI. 37.42; 47. В начале X в. печенеги кочевали между Доном и Дунаем (см. коммент. 1 к гл. 1). Их кочевья находились в одном дне пути от Киева. С 915 по 1036 г. Киев 16 раз воевал с печенегами (не считая мелких стычек). Политика Руси по отношению к печенегам не сводилась к постоянной конфронтации. Так, Игорь включил их в свое войско во время походов на Византию 943-944 гг. (ПВЛ Ч 1. С. 33; Половой 1958. С. 138-147). Правда, В. Гюзелев (1968. С. 45) считает, что в данном случае печенеги были орудием Византии, а не Киева, однако это предположение не нашло поддержки (Божилов. 1973. С. 60).
49
О русско-печенежскои торговле см. Левченко. 1956. С. 201, Литаврин, Каждап, Удальцова 1967, Новосельцев, Пашуто 1968 С. 81-108.
50
Следует отметить ошибочность информации Константина об отсутствии скота у росов, информации, полученной вероятно, от византииского купца, а не от болгарина или печенега, знавших лучше реальную ситуацию Археологические исследования показали, что скотоводство было важной отраслью сельского хозяйства Древней Руси (Археология СССР. 1985. С. 225-226).
51
Кроме походов дружин князей Олега и Игоря на Византию (ПВЛ. Ч. 1. С. 33-34). Константин мог под отдаленными войнами росов подразумевать поход Игоря 943/944 г. в Закавказье (Якубовский. 1926. С. 88-89; Половой. 1958. С. 138-147; Пипуто. 1968. С. 103), сведения о котором могли дойти до Византии как от хазар (может быть, через херсонитов), так и от самих русских.
52
Т.е. Константинополь.
53
В гл. 9 Константин пишет, что росы, напротив способны и проводить ладьи по водным путям, и противостоять печенегам Возможно, за замечанием о невозможности отражать натиск кочевников во время переправы судов стоит какой-то известный Константину конкретный эпизод захвата печенегами торгового каравана росов.
54
От тюркск. «Тюрк». Известны восточные формы термина Письменные памятники зафиксировали термин с VI в. для обозначения ряда народов (древние тюрки VI-VII вв., хазары IX в, мадьяры X-XI вв, вардариоты XI-XIV вв., сельджуки XI-XIII вв.) Переносу на мадьяр этникона «турки» способствовало обыкновение византииских авторов ользовать собирательные и архаичные имена народов (Moravcsik ВТ II S. 13-17; Moravcsik 1967. S. 320).
55
Ср.: DAI 4.11-13; 8.21-33, 13.9-11; 38.55-57; 40.16-19 О печенежско-венгерских отношениях к середине X в.
56
О необходимости мира с печенегами ср.: DAI. 1.17; 5.5.
57
Ср.: DAI. 6.11, Const. Porph. De cerem. P. 691.4-7.
58
Об отношениях печенегов и венгров. ср.: DAI. 3.3; 8.21-22; 13.9-11; 38.55-5; 40.16-19.
59
От тюрк. Bulyar. См.: Moravcsik. ВТ. II. S. 104—105. Славянские племена Подунавь получили имя «болгары» от тюрок Аспаруха, вставшего во главе союзного государства утвердившегося в 680-681 гг. между Дунаем и Балканами (см.: Литаврин. 1985. С. 140-148; Ангелов 1987. С. 14-15).
60
Ср.: DAI. 1.17; 4.3.
61
Ср.: 8.5; 37.41-48. См.: Цавкова-Петкова. 1960. Т. 17. С. 142-143.
62
Стратиг Херсона Иоанн Вогас имел приказ императрицы Зои направить печенегов против болгар. По сообщению Николая Мистика, в 924-925 гг. печенеги готовились к вторжению в Болгарию (Nic. Patr. Epist. Col. 149-153). Константин не исключает возможности новых столкновений с болгарами: его общий тон в труде «Об управлении империей» в отношении Болгарии отнюдь не дружественный.
63
Ср.: DAI. 1.25; 8.5; 9.67; 37.38.
64
От тюрк. Qazar. Литературу см.: Moravcsik. ВТ. II. S. 334. Латинские формы этнонима Chazari. Д. Моравчик приводит и восточноязычные формы кит Ko-sa, Ho-sa, арм. H’azirk’, араб. Hazar. Славянские формы: Хазары, Хозары, Казары, Козары. Косары В VIII-XI вв. термин «Хазария» обозначает в византийских источниках страну народа хазар. Этот же смысл топоним имеет и у Константина (Moravcsik. ВТ. II S. 334) Этноним «хазары», впервые зафиксированный у Стефана Александрийского (610-641), является византииской передачей тюркского самоназвания хазар.
65
Политическое объединение группы адыгских племен, обитавших на побережье Черного моря между Кубанью и Никопсисом. Название «зихи» встречается и у более занних византийских авторов.
66
Название «влаттии» («пурпур») связывается (не без сомнения) с финикийским именем Афродиты. Византийскому названию драгоценных тканей, главным образом шелковых, — «влаттии» — соответствовало славянское — «паволоки» (Византийская книга эпарха С. 151). «Прандии» — «лента тесьма, пояс, шнур». «Прандиями» назывался мелкии галантерейный товар — ленты, товязки, головные платки, покрывала, вообще, готовое для употребления изделие из ткани. Феофан «прандиями» называет головной убор варваров. «Харерии» — вид шелковой (персидской) ткани Перец в Византию привозили из Индии, причем перец длинный и белый, как и другие пряности, например, корицу и кардамон.
67
Служители императора, выполнявшие его поручения.
68
Д. Моравчик рассматривает главы 7 и 8 как описание процедуры, которой следует придерживаться византииским послам, отправляющимся к восточным и западным печенегам. Первых легко было достигнуть, отбившись из Херсона вторых — уже в устье Дуная.
69
Этим термином Константин Багрянородный обозначает область расселения печенегов. В более ранних источниках топоним «Пачинакия» встречается у Николая Мистика. Термин в византийских текстах редкий известны еще лишь два случая его употребления — в анонимной тактике X в. и в XI в. у Иоанна Скилицы.
70
Об охранниках см также: Liutpr. Legatio. P. 206. 22.
71
О притязаниях печенегов и других «северных народов». ср.: DAI. 13.15-16.
72
Византииское тяжелое военное судно вмещавшее 100-500 человек. Согласно другому мнению «хеландия» — лишь просторечное название дромония.
73
Вполне основательно предположение Д. Моравчика, что послы к западным печенегам, о которых здесь идет речь, могли встречать их прежде всего в устье Дуная. В этот период Дунай был границей Болгари и и территории распространения печенегов.
74
Передача «ъ» в славянских названиях (Дьнепр, Дънестр) через краткии «а» характерна для византиискои ономастики. В связи с этим в науке был поставлен вопрос о славянском информаторе Константина по данным сюжетам.
75
Выражение «в стороне Булгарии» вызвало острые споры Болгарский историк И. Божилов видит здесь доказательство того, что «регион Болгарии» простирался во время правления Константина до Днепра, часть печенегов, по соглашению с болгарским царем, жила в пределах Болгарии, и к ним можно было прибыть и по Дунаю, и по Днестру и по Днепру. Предположение это не представляется убедительным: не оставляет сомнении в том, что и в комментируемом месте имеется в виду лишь непосредственное соседство земель западных печенегов с территорией Болгарии и что границей между Печенегией и Болгарией было устье Дуная.
76
Говоря о «заканах», Константин передает несомненно славянское слово; видимо, само это понятие, а возможно, и нормы права были заимствованы печенегами у славян. Впрочем, Д. Моравчик отмечает, что термин «закан» в качестве идиомы проник даже в средневековый греческии (он воспроизведен в словаре «Суда» X в. под словом «датон»).
77
Понятие «друзья» использовалось византийцами для обозначения своих союзников.
78
Об этих нападениях см.: DAI. 3.3; 4.11-13; 13.9-11; 55-57, 16-19.
79
Единственное известное свидетельство о миссии клирика Гавриила. Наиболее вероятно предположение Д. Моравчика, что она имела место после 927 г.
80
Именно из этих слов Д. Моравчик заключил, что во время посольства Гавриила венгры («турки») были зависимы от Византии, что неоднозначно.
81
Греческий термин «архонт» был широко распространен в византийской социально-политической практике. В византийской литературе X-XI вв. термином «архонт» обозначали как знатных персон, имевших определенный титул и занимавших высокую должность, так и не имевших должности богачей, а также чужеземных правителей (болгарских царей, русских и других славянских князей, племенных вождей кочевников и т.д.). Тот же термин предцисывалось употреблять в императорских посланиях при обращении к вождям венгров.
82
Место, трудное для понимания Д. Моравчик указывает венгерскую параллель к греческому переложению слов архонтов расценивая их как достоверные, и предлагает перевод: «Мы не поставим себя после печенегов» Р. Дженкинз переводит: «Мы не поставим себя на путь печенегов».
83
Из последних строк главы явствует, что мадьяры были независимы от византийского императора.
84
Константин сообщает важные сведения характеризующие оттонное скотоводство как основу экономической жизни печенегов в поисках пастбищ они перемещались в летнее время из-за Днепра к берегам Черного моря и дунайским равнинам, а осенью уходили назад. Эти сведения согласуются с материалами археологических исследований погребений кочевников.
85
Термин «рос» у Константина обозначает народ или его часть; производные «Россия» — принадлежащую росам землю, а «росисти» (буквально «по-росски») — язык, на котором они говорят. Первые упоминания «росов» в византийских текстах относятся к IX в. Ко времени Константина Багрянородного этникон «рос» стал привычным в византийской традиции. Происхождение названия «рос» в византийских источниках — спорная проблема, которая породила огромную по объему историографию, содержащую множество самых различных гипотез (подробнее см.: Мельникова и др. 1991 С. 296-307).
86
Основной вид судов у славян — долбленки-однодеревки. Однако, судя по дальнейшему описанию, собственно однодеревки использовались, по-видимому, в качестве килевой части более сложных судов типа ладьи с наставными бортами, пригодной для морских плаваний. Подобные суда использовались и викингами. Археологические раскопки в Старой Ладоге, на Киевшине, в дружинных курганах дали интересные находки деталей судов X в., которые подтверждают сборную конструкцию кораблей. Согласно договору Олега с греками, в ладье помещалось 40 человек (ПВЛ. Ч. 1. С. 24). В рассказе византийского историка Скилицы о нападении русского флота в 1043 г. моноксилы характеризуются как тип судов, присущий именно «росам» (Мельникова и др. 1991. С. 307-308).
87
Термины «Росия» и (ниже, в гл. 37) «страна Росии» как обозначение территории восточнославянского государства, соответствующее летописным наименованиям «Русь» и «Русская земля», впервые в византийской литературе встречаются в сочинении Константина «О церемониях».
88
Выражение допускает несколько толкований.
1) «Внешняя Росия» — подчиненная росам территория славян со всеми перечисленными ниже городами, «внутренняя» (этого термина у Константина нет — ок восстанавливается как оппозиция к «внешней» Росии) — собственно Киев, откуда выходят «все росы» в полюдье.
2) «Внешняя» и «внутренняя» Росии — два основных пункта пребывания росов Немогард — Новгород и Киев.
3) Гипотетическая «внутренняя Росия» — Русь в узком смысле — Киевская, Черниговская и Переяславская земли.
4) «Внешняя Росия» — Северная Русь с центром в Новгороде.
5) Существует также предположение, что деление Руси на «внешнюю» и «внутреннюю» проводилось самими византийцами; таким образом, «внутренняя Росия» — ближайшие к Византии (и Киеву) земли в Приднепровье, «внешняя Росия» — отдаленная Новгородская земля.
89
Нижеследующий перечень древнерусских городов, поставляющих моноксилы росам, последовательно называет центры, лежащие на Днепровском пути, от самого север ного — Новгорода — по мере их приближения к Киеву. Особый интерес представляет синтаксическое выделение Константином первого центра — Новгорода: «одни из Немогарда … другие из крепости Милиниски, из Телиуцы…». Именно он (в отличие от Любеча и др.) играл первостепенную роль в функционировании Невско-Днепровского пути и был крупнейшим средоточием ремесла и международной торговли. Это сообщение Константина весьма важно как свидетельство сложения на Руси к середине X в. сети поселений, связанных едиными внешнеэкономическими и политическими целями.
90
Общепринята интерпретация топонима Немогардас как Новгорода Великого. Интересно также предположение А.Н. Кирпичникова, что под этим названием следует понимать «Невогардас», «город на озере Нево», т.е. Старую Ладогу, которая являлась в сер. X в. крупнейшим торгово-ремесленным центром Северной Руси.
91
Употребление греческой формы имперфекта, соответствующего др.-рус. «седе» (от «сидеть» в значении «править, занимать престол»), рассматривалось как показатель того, что ко времени написания гл. 9 правление Святослава в Новгороде окончилось (после смерти Игоря осенью 944 г.).
92
Киевский князь Святослав Игоревич. Согласно Ипатьевской летописи, родился в 942 г. (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 36); умер в 972 г. Славянское имя князя является важным свидетельством быстрой — в третьем поколении — ассимиляции скандинавской по происхождению династии русских князей в славянской среде. Сведения о том, что Святослав «сидел» в Новгороде, сохранились только у Константина. Это известие — раннее подтверждение традиции сажать на новгородский престол сына киевского князя (ср.: Владимир Святославич, Ярослав Мудрый и др.).
93
Киевский князь Игорь, согласно Повести временных лет, — сын Рюрика. Имя — скандинавского происхождения: Игорь < Ingvarr (в раннесредневековой Швеции имя Ингвар было распространено в династии конунгов из рода Инглингов).
Игорь правил, по сообщению Повести временных лет, с 912 г. (хронология его жизни до вокняжения в Киеве сомнительна. Ср.: ПВЛ. Ч. 2. С. 249-250, 295). Сведения о его гибели во время полюдья летописец помещает под 6453 г. (Там же. Ч. 1. С 39-40); поскольку Константин говорит о начале полюдья в ноябре, гибель Игоря, видимо, произошла в ноябре 944 г.
94
Архонт — обычный титул русских князей в официальных документах византийской канцелярии и в сочинениях Константина Багрянородного.
95
Общепринята идентификация топонима Μιλινíσκα с названием Смоленска, одного из древнейших русских городов. Форма «Смольньскъ» — производная от «Смольня» (название речки, на которой стоит Смоленск — от «смола»); прочие этимологии (включая скандинавскую) неубедительны. Сообщение Константина о крепости Смоленска породило дискуссию среди археологов о том, какой именно населенный пункт он имеет в виду и что такое Смоленск в середине X в. В современном Смоленске не открыты ни слои, ни укрепления X в., поэтому высказывалось предположение, что древний Смоленск располагался на месте Гнездова, на Днепре, в 12 км ниже современного города, где помимо дружинных курганов, открыты городище и селище.
96
Наиболее распространена идентификация топонима Τελιοντζα с древнерусским «Любеч», хотя с формально-лингвистической точки зрения соответствие Τελιοντζα-«Любьчь» необъяснимо (остается лишь допустить, что греческая передача этого названия подверглась существенным искажениям).
97
Приведенная Константином форма предположительно отражает древнерусский топоним Чернигов (им. п. Τζερνιγωγα) в форме род. п. — «из Чернигова».
Чернигов упомянут в Повести временных лет среди подвластных Олегу городов под 907 г. О подчиненности Чернигова Киеву свидетельствуют и археологические данные: возле города располагался дружинный некрополь X в. с большими курганами, близкими гнездовским, а в 16 км к юго-западу от Чернигова — дружинный лагерь у села Шестовица с некрополем, включающим камерные гробницы, аналогичные киевским.
98
Топоним Βονσεγρáδε Константина согласуется с названием «Вышгород» (др.-рус. «Вышегородь» или «Вышьгородъ»), т.е. «Верхний город». Как признается всеми исслелователями, огласовка в записи Константина — южнославянская.
99
Однодеревки проходили значительную часть пути «из варяг в греки» от Новгорода к Днепру, видимо, по описанным в летописи артериям (Волхов — Ильмень — Лопоть. — ПВЛ. Ч. 1. С. 11). Собственно Днепровский путь, по данным нумизматики, начинает функционировать позже Волжского (в начале IX в., наиболее интенсивно используется в X в.). Однако Аскольд и Дир, прошедшие Днепровским путем в 60-е годы IX в., изображаются летописью как первопроходцы, не знающие Киева (ПВЛ. Ч. 1. С. 18-19). Путь служид в X в. не только главной внутригосударственной магистралью, связующей два основных центра, Новгород и Киев, и все подчиненные Киеву земли (по Днепру возвращаются в Киев дружины росов после полюдья), но через Русь связывал Скандинавию и Прибалтику с Византией.
100
Название Κιóαβα, встречающееся в главе трижды (в формах Κιóαβα, Κíοβα и Κíαβον), уверенно идентифицируется с Киевом, который упомянут в Повести временных лет в числе древнейших русских городов.
101
Название Σαμβατáς встречается только в этом сочинении Константина. Предлагавшиеся скандинавские этимологии названия: из sand-bakki — «песчаная отмель» или sandbakkaass — «песчаная возвышенность», из sand-vad — «песчаный брод» — неудовлетворительны. Также малоубедительны попытки вывести название Σαμβατáς из иранского личного имени Смбат со ссылкой на возможные тесные связи Киева с Арменией. Распространена, хотя и недостаточно обоснована, славянская этимология названия: m *Sa-vodb или *Sa-voda (ср. слов, sovoden — «слияние», чешек, souvoden — «сток двут рек», рус. суводь — «сулой, водоворот»).
Весьма распространенной является тюркско-хазарская этимология названия, рассматривающая его как композит sam- («высокий, верхний») + bat («сильный») со значением «верхнее укрепление», «высокая крепость», что соответствует реальному местоположению Киева. Еще одна гипотеза связывает название Самватас с распространенным в раннесредневековой еврейской литературе названием легендарной реки Самбатион, локализуемой некоторыми источниками в Северном Причерноморье. Это название могло применяться к Днепру и Киеву в среде еврейско-хазарской общины, жившей в Киеве в X в. В целом же вопрос об этимологии названия остается открытым.
102
Термин (от греч. πáκτον, имеющего значение и «договор», и — чаще — «дань») может означать и данников, и союзников.
103
Кривичи — племенное объединение восточных славян, занимавших верховья Днепра, Западной Двины и Волги, с племенными центрами в Полоцке, Смоленске и Изборске.
104
Самоназвание этой группы славян реконструируется как лендзяне (ст.-слав. *ledjane < *led-, «невозделанное поле») или лендзичи (Lendizi у «Баварского географа» IX в. ст.-слав. *ledjitji), что фактически идентично раннему самоназванию поляков (пол Lachowie, лат. Lechiti), где lach/lech < *ledch; ср. др.-рус. ляхъ, Лядьская земля, литов lenkas, венг. lengyel — «поляк». Вопрос о том, с каким из восточнославянских племенных объединений, упоминаемых в Повести временных лет, следует отождествить лензанинов Константина Багрянородного, остается предметом научных дискуссий.
105
Этот термин употребляется греческими авторами применительно к балканским славянам с VII в. Он обозначал как территорию расселения какого-либо славянского племенного объединения, так и прото- или раннегосударственные образования славян.
106
Под «горами», вероятно, подразумеваются возвышенности, расположенные вдоль «пути из варяг в греки» (Валдайская, Смоленско-Московская, Волынская и др.).
107
В данном пассаже отмечены главные этапы сооружения судов-однодеревок (моноксил) у славян: сначала в разных местах выдалбливались корпуса лодок из древесных стволов, затем они сплавлялись по притокам Днепра и Днепру к Киеву, где им давалась необходимая оснастка, после чего уже в устье Днепра суда переоснащались для плавания по морю.
108
Наилучшие погодные условия для плавния по Черному морю — в июне и июле. Осенью росы должны были покинуть Константинополь, чтобы успеть к ноябрю — времени полюдья — вернуться в Киев. В июне же было совершено первое нападение росов на Константинополь в 860 г. Поэтому можно предполагать, что моноксилы собирались в Киеве в апреле, а май уходил на их снаряжение (Мельникова и др. 1991. С. 318).
109
Это упоминамый в древнерусских летописях Витичев, важная сторожевая крепость, охранявшая брод через Днепр под Киевом.
110
Сбор моноксил в Витичеве, а не в Киеве можно объяснить тем, что здесь караван джидал суда, идущие из Переяславля, стоявшего на р. Трубеж, которая впадает в Днепр 50 км ниже Витичева. Витичев был местом сбора русских войск вплоть до XII в.
111
При описании пути, которым росы и славяне следовали в Цареград, автор особое внимание уделяет днепровским порогам, представлявшим для судов наибольшую опасность, и обычным местам стоянок. Всего Константин называет имена семи порогов (в разные эпохи их насчитывали от семи до двенадцати, так как некоторые пороги иногда рассматривались как отдельные уступы одного порога), общая протяженность которых составляла около 68 км.
112
Для пяти из семи порогов актор приводит параллельные «росские» и «славянские» имена. Если последние являются несомненно славянскими, то о происхождении «росских» названий издавна ведется оживленная дискуссия. Предложенная еще во второй половине ХVIII века и наиболее досконально аргументированная древнескандинавская этимология указанных топонимов вызывала и продолжай вызывать энергичные возражения со стороны ряда ученых, предлагающих различные этимологизации из иранских (скифо-сарматских) или тюркских языков. Вопрос об этимологии «росских» названий порогов приобрел особую остроту в связи с полемикой «норманистов» и «антинорманистов».
113
Совпадение «росского» и «славянского» названий первого порога, а также их соглавание с греческим переводом вызвали большие сложности. Если соответствие первого и третьего элементов принятой автором системы «росское имя — славянское имя — греческая интерпретация» не вызывает особых сомнений, то подобрать убедительный скандинавский эквивалент оказалось значительно сложнее. Данный порог отождествляется со Старокайдацким, находившимся в 18 км ниже станицы Днепропетровской (подробнее см.: Мельникова и др. 1991. С. 321-322).
114
Императорский конный манеж в Константинополе. Его размеры точно не устанлены; предположительно достигал в ширину 70 м.
115
В рукописи лакуна.
116
В рукописи неясно.
117
Оба названия второго порога и его перевод на греческий язык хорошо согласуются между собой. «Росское» имя отражает др.-сканд. Holmfors, где holm — «остров», a fors — «водопад, порог». Этимология славянского названия также прозрачна, хотя и подверглась некоторым фонетическим искажениям. В греческом переводе составные части названия поменялись местами: вместо «островной порог» — «островок порога». Этот порог обычно отождествляется с Лоханским или Сурским.
118
Название третьего порога в действительности является скандинавским (от др.-швед. Gasllandi — «гремящий, звенящий»). Славянское название оказалось почему-то утраченным или пропущенным, а выражение «по-славянски» заняло место ожидаемого «по-росски». В XIX-XX вв. этот порог, расположенный в 5 км от Лоханского, называли Звонкий (Звонец), сохранив, возможно, свое древнее название, являющееся в таком случае точным эквивалентом скандинавского.
119
«Росское» название четвертого порога ’Αειφóρ является, согласно различным толкованиям, видоизмененным др.-швед. Æidfors — «порог волока», или же Æiforr — «всегда стремительный». Существуют и другие версии. Славянское же название восходит к названию птицы неясыть («пеликан»), однако представляется вероятным, что такая интерпретация является продуктом переосмысления знавшим славянский язык информатором Константина названия порога, восходящего в действительности к основному значению ст.-слав. nejesytъ — «ненасытный», что подтверждается позднейшим названием этого порога — Ненасытец, и больше соответствует как вероятной скандинавской этимологии («всегда бурлящий»), так и природе этого порога, одного из самых опасных на Днепре. Порог Ненасытец находился в 7 км ниже предыдущего.
120
Опасность этого участка Днепровского пути неоднократно отмечается и в Повести временных лет: именно здесь погиб на пути из Византии Святослав; киевские князья высылают к порогам охрану для сопровождения купцов, торговавших с Византией и т.д.
121
Вероятно, имеются в виду товары для продажи в Константинополе. Возможно, кроме рабов, росы везли в Византию икру и соленую осетрину, так как сезонная добыча икры в низовьях Днепра совпадала по времени с проходом в Черное море каравана судов на Константинополь.
122
Рабы — единственный вид «товара», упомянутый автором и связи с торговой экспедицией росов в Константинополь, где рабы пользовались спросом, особенно в сер. X в.
123
В X в. употреблялись византийская (1574 м) и римская (1480 м) мили. Протяженность Ненасытецкого порога, по описаниям, — около 2,5 км, что в несколько раз меньше указанной Константином длины: 6 византийских миль = 9 км. Существует предположение, что росы высаживались на берег значительно выше порога, а спускали моноксилы значительно ниже.
124
«Росское» название пятого порога объясняется др.-сканд. Barufors («порог волны») или Varufors («порог скалы, выступающей из воды»). Славянское имя восходит, скорее всего, к выражению, означавшему «волновый порог» (ср. позднейшее название этого порога — Волниг). Волнигский порог лежал в 14 км ниже Ненасытецкого (все комментарии: Мельникова и др. 1991. С. 324).
125
Приведенное толкование не соответствует, по-видимому, ни росскому, ни славянскому наименованию порога.
126
«Росское» и славянское названия шестого порога не вызывают затруднений: др.-швед. Leandi — «смеющийся», др.-рус. вьручии — «кипящий, бурлящий». Местоположение порога точно не установлено.
127
Наиболее удачной попыткой согласовать оба приведенных топонима с их греческим толкованием является объяснение «росского» названия из др.-сканд. strukum («узкие места реки с бурным течением, стремнины»), а славянского — из достатоно распространенной в древнерусской топонимике конструкции (несколько искаженной переписчиком) на стръжи («на стрежне» — полосе речного русла с наиболее быстрым течением). Обычно отождествляется с предпоследним или последним днепровским порогом, соответственно Лишним и Вольным (см.: Мельникова и др. 1991. С. 326).
128
«Переправу Крария» (τò περαμα τον Κραρíον) принято отождествлять с бродом Кичкас, расположенным в 15 км ниже последнего порога. Приводились скандинавские, тюркские и армянские этимологии этого названия. Наиболее аргументированной представляется гипотеза, связывающая данное название с др.-швед. Vrar færia («переправа поворота»), где в первом слове спутаны буквы β и κ (распространенная ошибка византийских переписчиков) и добавлено греческое окончание — ιον, а второе слово правильно переведено как περαμα — «переправа». Ниже последнего порога Днепр действительно делает крутой поворот. Как следует из текста, переправа была важным пунктом, где пересекались торговые пути из Киева в Черное море и Крым, а также маршруты сезонных миграций печенегов; возможно, здесь же проходила сухопутная дорога в Хазарию и Тмутаракань (Таматарху).
129
Буквально «херсониты из Росии». Обычно считается, что это херсонесские купцы, возвращающиеся из Руси (Там же).
130
Речь, следовательно, идет о печенегах, живших на правобережье Днепра и переправлявшихся на левый берег по пути в Херсонес (Там же).
131
О связях Руси с Херсонесом (Херсоном) в X в.. преимущественно торговых, говорят находки глиняных амфор херсонесского производства на древнерусских поселениях по Днепровскому пути вплоть до Гнездова.
132
Данные археологии и письменных свидетельств о ширине константинопольского ипподрома расходятся (около или более 100 м). Ширина же Кичкасской переправы, определяется в 150-180 м (Мельникова и др. 1991. С. 326).
133
Трудное для понимания место в рукописи (см.: Там же. С. 327).
134
Речь идет, видимо, о высоком правом береге Днепра, с которого печенеги спускались к переправе (Там же).
135
Это о. Хортица, лежащий в нескольких километрах ниже брода Кичкас. В Воскресенской летописи под 1223 г. назван Варяжским островом. Постоянно использовался как русская база против половцев и монголо-татар. На острове обнаружены остатки древнерусского поселения, древнейший слой которого датируется X-XI вв.
136
Описание жертвоприношений на о. Св. Григория породило полемику об этнической принадлежности отправлявших этот ритуал. Делались попытки, опираясь на сравнительный материал, доказать их скандинавское или славянское происхождение. Однако поклонение принесение дубу, в жертву петухов и приношение еды божествам известны в языческих культах большинства народов Европы. Жертвоприношение петухов было, по всей вероятности, связано с гаданиями о предстоящем плавании. Лев Диакон сообщает о жергвоприношении петухов, которых воины Святослава топили в Дунае. Ибн Фадлан при описании погребального обряда русов упоминает о петухе и курице, брошенных в погребальную ладью.
137
Не совсем понятное место в тексте оригинала; возможно, отрицание «не» не попало и может случайно, поскольку из дальнейшего описания следует, что росы именно боятся печенегов до р. Селины.
138
Обычно отождествляется с Сулиной, центральным из трех рукавов дельты Дуная.
139
Остров Св. Эферий традиционно отождествляется с о. Березань напротив дельты Днепра. Другая гипотеза соотносит этот остров с западной частью Кинбурнского полуострова, в древности представлявшую собой остров, омываемый лиманом, морем и рукавом Днепра. Археологические раскопки подтверждают существование в Х-ХI вв. временных стоянок моряков на о. Березань.
140
Река в бассейне Днестра, название которой («Белая») связано, вероятно, с именем города Аспрокастрон (рус. Белгород-Днестровский). Во время написания трактата местность вокруг р. Аспрос контролировалась печенегами, которые с наступлением весны перекочевывали в этот район (Мельникова и др. 1991. С. 327).
141
Археологичекие находки древнерусских изделий в Болгарии подтверждают наличие стоянок росских караванов на территории этой страны.
142
Конопа идентифицируется в настоящее время с селом Летя в Северной Добрудже (Румыния).
143
Современная Констанца в Румынии. Далее в рукописи лакуна.
144
Ныне р. Провадия, близ устья которой находится современный город Варна (античный Одес).
145
Ныне р. Камчия, впадающая в Черное море между Варной и Несебыром.
146
Видимо, р. Дичина была в сер. X в. границей между Болгарией и Византией.
147
Совр. Несебыр. Здесь предположительно оставалась большая часть судов и большинство гребцов и воинов, сопровождавших флотилию росов. В Константинополь отправлялись лишь князь со своими приближенными, высшая знать, послы и купцы, которые по условиям договоров 911 и 944 гг. могли до шести месяцев жить в константинопольском пригороде Св. Маманта на берегу бухты Золотой Рог.
148
Исходя из мн. ч. термина архонт, можно предполагать, что полюдье собирали несколько князей со своими дружинами, как в случае со Свенельдом и Игорем, взимавшим дань с древлян. Ср. упоминание «всякого княжья» в договоре Игоря с Византией 944 г. и «архонтов Росии» в описании Константином Багрянородным приема Ольги (Мельникова и др. 1991. С. 327).
149
Вероятно, выражение «все росы» соответствует словосочетанию «вся русь» в летописной легенде о призвании варягов и в договорах с греками (ПВЛ. Ч. 1. С 18, 26, 52). В данном контексте оно обозначает княжескую дружину, собирающую полюдье, или всех участников похода, в том числе морского. Таким образом, до сер. X в. сохранялось превоначальное социальное значение слова, наряду с этническим (Там же. С. 329).
150
Полюдье означало объезд князем с дружиной подвластных территорий с целью сбора дани, а позднее и саму дань. Порядок перечисления Константином славянских племен, возможно, отражал последовательность полюдья. Предполагаемый маршрут включал все пять городов, упомянутых в начале главы. Греческая транскрипция древнерусского слова полюдье, как и встречающееся в исландских сагах древнерусское заимствование polutasvarf, свидетельствует об адаптации росами именно славянского слова, хотя типологически сходный институт в самой Скандинавии носил название «вейцла».
151
По общему мнению исследователей, этноним «вервианы» (вероятно, искаженное «дервианы») обозначает древлян — союз племен, населявших территорию между Днепром, Горынью и верховьями Южного Буга. Древляне убили князя Игоря, пытавшегося повторно собрать с них дань, но были покорены его вдовой Ольгой в 945 или 946 г., незадолго до написания трактата «Об управлении империей», который подтверждает подвластность древлян Киеву (Мельникова и др. 1991. С. 330).
152
Отождествляются с дреговичами — племенным союзом, находившимся между Припятью и Западной Двиной.
153
Соответствуют племенному объединению северян (др.-рус. севера), обитавших в бассейне Десны, Сейма и Супы.
154
Трудно с точностью установить, кого именно Константин имеет в виду под «прочими славянами» — данниками росов. Из восточнославянских племен, известных по Повести временных лет, в перечнях, приводимых Константином в главе 9 (дважды) и главе 37, отсутствуют ильменские словене, радимичи, бужане (волыняне), прикарпатские хорваты, тиверцы, а также вятичи и поляне. Большинство из этих племенных союзов занимали периферийное по отношению к Киеву положение, а некоторые (например, вятичи) в сер. X в. еще оставались вне территории, контролируемой киевскими князьями.
155
О пактиотах см. выше.
156
В сходном значении «кормление» упоминается в Повести временных лет (ПВЛ. Ч. 1. С. 97, 116), когда дружина разводится по городам «на покорм». Ибн Русте сообщает, что «русы питаются лишь тем, что привозят из земли славян»; по словам Гардизи, «всегда 100-200 из них ходят к славянам и насильно берут у них на свое содержание, пока там находятся» (Новосельцев 1965. С. 397, 400). Таким образом, сбор дани-полюдья сопровождался «кормлением» князя и дружины. Система кормлений в измененном виде продолжала существовать в Русском государстве вплоть до XVI в. (Мельникова и др. 1991. С. 331).
157
Апрель — обычное время ледохода на Днепре.
158
В византийских источниках этим термином обычно обозначается Византийская («Ромейская», т.е. Римская) империя.
159
Замечание об узах — явная интерполяция (сделанная, быть может, самим Константином) или грубый дефект композиции гл. 9. От тюрк. Oguz>Uz. В русских летописях соответствует этникону «торки». Впервые в Повести временных лет упоминаются под 985 г. В византийских источниках самое раннее употребление термина — у Константина Багрянородного. В основном встречается в источниках XI в. Известны и другие византийские наименования узов-торков: огузы и гунны. Тюркские кочевые племена узов (огузов) населяли в X в. территории к северо-востоку от Каспийского моря, между Волгой и Аральским морем.
160
О соседстве узов и хазар ср. также: DAI. 37.4.
161
Одно из византийских наименований правителя иноземного народа. Титул упомянут и в «Книге церемоний» (Const. Porph. De cerem. P. 688.2) (Ostrogorsky 1936. S. 52; Soloviev 1947. T. 9. P. 34, n. 10). Сходный термин «эксусиаст» употреблялся применительно как к могущественным Фатимидам, так и к аланам и авасгам — вассалам Византии.
Социально-политическая терминология византийских источников, касающаяся аланского господствующего класса, неоднозначна. Поэтому высказывалось предположение о существовании реального различия в политическом статусе упоминаемых Констан тином «эксусиократора Алании», с одной стороны, и «архонта Асии» (Const. Porph. De cerem. P. 688.2,6) — с другой. Различие в терминологии истолковывалось в том смысле, что «наряду с чисто официально-государственным титулом «эксусиократора Алании», существовало и понятие, «целиком связанное с родовым строем», — «старейшина асов»» (Кузнецов 1971. С. 233). Однако оснований для принятия этой гипотезы нет.
Аланией византийцы называли как территорию расселения на Северном Кавказе ираноязычных племен — аланов, так и политическое образование, игравшее в начале X в. на северо-восточной периферии Византии роль ее аванпоста против хазар и кочевников южнорусских степей.
162
В.А. Кузнецов локализует «Климаты» Хазарии, т.е. области, подвластные хаганату, лишь в районе Нижнего и Среднего Прикубанья (Кузнецов 1971. С. 15 сл.). А.В. Гадло, напротив, считает, что здесь имеется в виду более обширный район Северного Кавказа, борьба за влияние в котором и определила характер алано-хазарских конфликтов (Гадло 1979). Целью Византии, как следует из рассматриваемого текста, было закрепление своего влияния в северокавказском регионе путем отторжения от Хазарии Крыма и Боспора (см. гл. 11) и укрепления алано-византийского союза против хазар; вместе с тем предполагалось, используя силы кочевников (печенегов и узов), противопоставить их не только хаганату, но и Алании.
163
«Крепостью» Боспор Константин называет город на восточной оконечности Крымского полуострова (на месте совр. Керчи), который является прямым наследником античного города Пантикапей, основанного в первой половине VI в. до н.э. С III в. в Боспоре получило распространение христианство, а с IV в. Боспор выделился в самостоятельную епископию Константинопольской патриархии. В начале VI в. он снова стал центром византийского административного округа, но в VII в. большая часть Крыма, особенно его восточная часть, попала под власть Хазарского хаганата.
Ко времени составления трактата Константина Багрянородного этот регион уже стал объектом интенсивных внешнеполитических действий Древней Руси, в силу острого столкновения в Северном Причерноморье интересов, прежде всего, Византии и Руси, боровшихся за влияние в Таврике и Приазовье.
Свидетельство Константина отражает, по-видимому, еще хазарский период истории Боспора, когда в завоеванном в VIII в. городе сидел хазарский тудун, а сам город назывался, судя по переписке Иосифа, К-р-ц (Коковцов 1932. С. 101-102).
164
Город-крепость в излучине Дона, на левом берегу Старицы, на западном рубеже падений Хазарского хагана.
165
Как сказано выше, в IX-X вв. обострились византийско-хазарские отношения; Византия побуждала к нападениям на Хазарию прежде всего печенегов и аланов. Не всегда эта политика приносила империи успех. В спровоцированном ею алано-хазарском конфликте 932 г. хаган с помощью наемников-узов разбил аланов и взял в плен их правителя. Победитель предпочел, однако, не устанавливать свое непосредственное господство в Алании: хаган принял пленника с почестями и даже женил своего сына на аланской царевне. В результате аланы на время даже возвратились к язычеству, изгнав христианских священнослужителей (Артамонов 1962. С. 363-364).
166
Ср.: DAI, 42.77. Черная Булгария известна также по Повести временных лет: согласно договору Игоря 944 г. с Византией, русский князь обязывал защищать «Корсунскую землю» (округ Херсона) от черных болгар, нападавших из Приазовья. Локализация спорна: область Кубани (Златарски 1967-1971. Т. I. Ч. 1. С. 114) или междуречье Днепра и Дона (Vasiliev 1936. Р. 101).
167
Печенеги.
168
Междуречье Волги-Урала-Эмбы.
169
Огузские племена. «Торки» в русской традиции.
170
Т.е. в 898-902 гг. Однако обычно изгнание печенегов узами (в союзе с хазарами) датируют 894 г.
171
О владениях узов в междуречье Волги и Урала пишут и восточные авторы.
172
В тексте возможна лакуна.
173
Локализация «страны» венгров, занятой печенегами, остается спорной.
174
Археологически места обитания печенегов простирались от Дона до Прута.
175
Обычное название административно-территориальных округов в Византии. Здесь — «область расселения».
176
«Фемы» печенегов, скорее всего, — племенные названия.
177
Направления кочевания диктовали условия отношений с Византией, венграми, Русью.
178
Крымское южнобережье.
179
Уличи.
180
Древляне.
181
Лендзяне, или Лендзичи.
182
Мордва.
183
Важное свидетельство о территориальных проблемах.
184
Ибн-Фадлан подтверждает информацию о кочевьях печенегов среди узов.
185
Названия имеют тюркское происхождение.
КОНСТАНТИН БАГРЯНОРОДНЫЙ
5. Константин Багрянородный о пути «из варяг в грекы»
Девятая глава сочинения Багрянородного «De administrando imperio» носит название: «О Руссах, приезжающих из России на однодревках в Константинополь». Она содержит много интересных сведений о пути «из Варяг в Грекы» и заключает в себе, между прочим, данные о названиях днепровских порогов.
Эта глава настолько интересна, что мы приводим ее ниже целиком. Однако мы предпочли критически рассмотреть ее по коротким отрывкам, чтобы, читая главу, осмысливать последующее в свете только что выясненного и потом не возвращаться назад.
В основу взят перевод, опубликованный в «Известиях ГАИМК», вып. 91, 1934, с изменениями там, где перевод явно неточен (а ошибки были сделаны чрезвычайно грубые), ибо мы не можем брать на себя задачу целиком и основательно пересмотреть его (хотя это и крайне необходимо).
«Однодревки, приходящие в Константинополь из внешней Руси, идут из Невогарды, в которой жил Святослав (Sphendosthlabus), сын русского князя Игоря, а также из крепости Милиниска, Телюца, Чернигога и Бусеграде».
Прежде всего бросается в глаза выражение «внешняя (дальняя) Русь». О нем уже имеется целая литература Отбрасывая крайности в толковании, скажем, что Багрянородный, по-видимому, различал «внешнюю» (дальнюю) и «внутреннюю» (ближнюю) Русь; последний термин он не употребляет, но он логически вытекает из первого названия.
Крайним пунктом в этой «дальней Руси» Багрянородный считает, в сущности верно, Новгород. Затем идут последовательно Смоленск, Любеч (?), Чернигов и Вышгород. Киевскую область и прилегающие к ней западные и восточные, он, надо полагать, считал «ближней Русью».
Таким образом, Багрянородный не только знал народ «руссов», но и всю их страну с севера на юг называл «Русью» («Росиа»).
Под «Невогарда» нетрудно отгадать Новгород, хотя некоторыми высказывалась мысль, что «Невогард» — это Старая Ладога, ибо она была расположена на озере Нево, как в древности называли Ладожское озеро. Это толкование должно быть решительно отвергнуто, ибо все русские летописи знают только название «Ладога» (названия «Невогард» не встречаем ни разу!), а скандинавское имя — «Aldeigjuborg» вероятно, является искажением первого.
Заговорив о Новгороде, Багрянородный тут же отмечает, что в нем жил Святослав, «сын русского князя Игоря (Иггор)». Следует вспомнить, что Багрянородный родился в 905 г., в 912 г. провозглашен императором, в 944 г., т. е., будучи уже в возрасте 39 лет, заключил совместно со своими соимператорами Романом (зятем) и Стефаном мир с Игорем Рюриковичем; иначе говоря, он должен был быть отлично осведомлен о Руси.
Между тем Святослав княжил в Киеве, а не в Новгороде. Сочинение Багрянородного было написано около 950 г., т. е. когда Святослав был мальчиком и уж никак не мог княжить в Новгороде, когда мать Ольга, правительница государства, была в Киеве. Вообще, ни прямо, ни косвенно, ни даже намеками, в истории ничего нет о том, бывал ли Святослав хоть раз в жизни в Новгороде.
Святослав был типичным южанином-руссом, и вся его деятельность происходила на юге, а устремления были еще дальше на юг. Для Дуная он забывал даже Киев и думал переносить туда столицу государства. Он настолько мало интересовался Киевом, что только счастливая случайность спасла Ольгу и его сыновей от печенежского плена. Новгородом Святослав совершенно не интересовался — это была подчиненная ему окраина, и только; вспомним, что новгородцы требовали у него себе князя (его сыновей), иначе угрожали, что найдут князя на стороне (так он заботился о Новогороде!).
Таким образом, Багрянородный не знал, что столицей «руссов» был не Новгород, а Киев (а ведь это было еще со времен Олега и Игоря!), не знал он, что в действительности правит страной Ольга, он только слыхал, что князем у руссов считается (номинально) Святослав. Это говорит о крайне низкой осведомленности Багрянородного о делах на Руси.
Следующим городом «дальней» (внешней) Руси Багрянородный называет Смоленск, называя его «крепостью Милиниска». В древности имя Смоленска звучало, вероятно, несколько на иной лад; так, в летописи мы часто встречаем «Смольниск», отсюда, вероятно, «и» и попало в форму, употребленную Константином Багрянородным. Буква «с» вообще выпала, как это случилось и с названием первого днепровского порога, где выпало «н», и вместо «не спи» получилось «ессупи».
Следующим городом назван «Телюца», надо полагать, что это искаженное название Любеча. Очевидно, информатор Багрянородного плохо помнил названия и приводил их по формуле: «что-то вроде»…
Под названием «Чернитога» ясно скрывается Чернигов, под «Бусеграде» («Вусеграде»), очевидно, Вышгород. Таким образом, граница между обеими «Русями» (внешней и внутренней) лежала под самым Киевом, ибо из Киева виден Вышгород.
Скорее всего, однако, что информатор Багрянородного только передавал все с чужих слов и не представлял себе точно пространственного расположения упоминаемых им городов; чувствуется это и в дальнейшем тексте.
«Все они спускаются по реке Днепру и собираются у киевской крепости, имеющей также имя “Самб(в) атас”».
Действительно, Киев в древности, в особенности у хазар и восточных писателей, часто назывался «Самватас».
Обращает на себя внимание то, что Багрянородный (вернее, его информатор) ровно ничего не знал о том, что Новгород был расположен на реке, принадлежавшей к системе Балтийского моря, что новгородцам, чтобы попасть в Днепр, надо было проделать два больших и трудных волока. Из этого видно, что информатор Багрянородного ездил только до Киева и что все его сведения о местностях выше Киева, очевидно, имеют только расспросный характер. Наконец, ясно, что и расспросы эти не были весьма глубокими. Таким образом Багрянородный имел сведения не столь из вторых, сколько из третьих рук.
Согласно Багрянородному, все «руссы», начиная с Новгорода и кончая Вышгородом, спускаются по Днепру в Киев; таким образом, он считал, что Новгород находится в верховьях Днепра. Что же касается «славян», то: «Данники их славяне, называемые кривитенами и лензанинами и прочие славяне, рубят однодревки свои в горах в зимнюю пору и, обделав их, с открытием времени (плаваний), когда лед растает, вводят в ближайшие озера».
Кривитены — ясно кривичи, лензанины не поддаются расшифровке. Интересно, что эти два славянских племени, как и другие славянские племена, считаются данниками «руссов», сидящих в Новгороде и только спускающихся в Киев по Днепру.
Здесь мы наталкиваемся опять на крупную неточность Багрянородного: во времена Рюрика и частично Олега кривичи и другие племена Северной и частью Средней Руси платили дань Новгороду, но во времена Олега, Игоря и Ольги (Святослава) роли переменились. Не только кривичи и «лензанены» и прочие племена, но и самые «руссы» (каким бы племенем их ни считать) тоже платили дань, но не Новгороду, а Киеву. В дальнейшем мы увидим, что Багрянородный будет сам себе противоречить.
Ясно, что Багрянородный положил в основу совершенно устарелые данные лица, побывавшего на Руси еще до Олега, и дополнил их некоторыми новейшими, например, что княжил Святослав, вытекающие же противоречия он устранить не мог из-за незнания действительного положения дел.
Этот вывод бесспорен и совершенно очевиден; тем более странно, что новейший автор, вооруженный всеми историческими данными, именно А. Н. Насонов, в своей в общем весьма дельной книге «Русская земля и образование территории древнерусского государства», 1951, слепо верит каждому слову Багрянородного, например, тому, что Святослав сидел в Новгороде и т. д.
Отметим далее, что информатор Багрянородного, привыкший к горам на родине, вероятно грек или болгарин, приписывает славянам пребывание в горах. Он, очевидно, не представляет себе, что реки могут вытекать и не из гор. Это указывает опять-таки, что в верховьях Днепра или его притоков он не побывал, он посетил только Киев.
«Затем, так как они (озера) впадают в реку Днепр, то оттуда они и сами входят в ту же реку, приходят в Киев, вытаскивают лодки на берег для оснастки и продают руссам. Руссы, покупая лишь самые колоды, расснащивают старые однодревки, берут из них весла, уключины и прочие снасти и оснащивают новые».
Здесь у информатора Багрянородного опять «ляпсус»: никаких крупных или вообще достойных внимания озер в системе Днепра нет; во-вторых, говоря о целых племенах славян, не мог он предполагать, что все они живут у озер. Очевидно, он слыхал об Ильмене, Чудском озере, но «слышал звон, да не знает, где он». Что крупные озера Севера не связаны с системой Днепра, осталось ему неизвестным.
Совершенно очевидно, что информатор Багрянородного даже расспросить местных жителей о пути «из варяг в греки» как следует почему-то не мог и многое объяснял себе сам по догадке; надо полагать, ему не позволяло сделать это недостаточное знание языка «руссов».
В этом отрывке бросается в глаза резкое противопоставление руссов славянам. Руссы — феодалы, славяне — вассалы, платящие дань; руссы — северяне, славяне более южане; руссы ездят в Царьград, славяне только доставляют лодки для поездок.
Эти утверждения либо не совсем точны, либо вовсе неверны. Если славяне только лесорубы и лодкоизготовители, сидящие по «своим горам», то днепровские пороги не носили бы специальных славянских названий, которые к тому же были известны информатору гораздо лучше, чем «русские».
Совершенно естественно и бесспорно, что ездили в Царьград все: и «руссы», и «славяне», и неславяне; об этом мы находим в летописях достаточно указаний, да это и так очевидно, ибо никакой «черты оседлости» для славян не существовало.
Далее, если верить историкам, считающим, что скандинавское племя «Русь», ставшее руководителем Новгорода, передало новгородцам свое имя, — нужно быть последовательным (на что мы и обращаем внимание норманистов). Допустим, что новгородцы, называвшие себя «словене» и называемые так же русским летописцем, со времени Рюрика стали зваться «руссами».
Значит, Багрянородный, говоря о «руссах» из Новгорода, разумел не только скандинавов, но и «словен»-новгородцев. А так как количественно «словене»-новгородцы преобладали, и, кроме того, как увидим ниже, только они могли давать основной контингент купцов-путешественников, — то «руссы» из Новгорода были на деле славянами, а не скандинавами. Скандинавов было мало, они сидели либо на верхушке государственной лестницы и такой черной работой заниматься не могли, либо занимались тем, для чего их призвали: сидели на месте и оберегали границы.
Таким образом, такое категорическое противопоставление Багрянородным «руссов» «славянам» — полнейшая нелепость, ибо, прежде всего, «руссы» Новгорода были славяне-новгородцы. Ведь мы не можем допустить мысли, что только скандинавы были купцами, а славяне ими не были; наоборот, — миролюбивые славяне могли и должны были быть купцами, чтобы выменять нужное в Царьграде на продукты своей страны.
Скандинавы же особой любовью к торговле не отличались, они предпочитали грабеж, и все они, пришедшие с Рюриком, были в подавляющем числе воины, о чем в летописи сказано ясно («и пояша дружину многу»). Да и самый смысл приглашения варягов заключался именно в военной защите государства от врагов. Рюрик, Олег, Игорь — все пользовались скандинавской силой не для торговли с Царьградом, а для защиты от нападений других варягов, а главным образом для «примучивания» всех окружающих славянских и неславянских племен. Они были заинтересованы только в получении дани, и князья, и дружина.
Предположение, что воину легко стать купцом, а купцу воином, скажем прямо, — наивно. Для торговли нужно было иметь или продукты своего производства, или капитал для оборота. Ни того ни другого у скандинавов в Новгороде не было. Землей они не владели, да и новгородская земля и по сей день родит очень скудно, а что касается капиталов, — то все они были голышами, жили жалованьем князя и целиком зависели от него.
Князья же не организовывали торговых экспедиций, они занимались своим делом: администрированием, судом и войной. Поэтому, можно сказать не колеблясь, что «руссы» из Новогорода — купцы — были в подавляющем числе чистейшими славянами.
Багрянородный, далее, не понял внутреннего, так сказать, трудового противопоставления купцов, едущих с севера, и представителей более южных племен, доставляющих лодки. Это вовсе не было противопоставление различных племен или классов общества — это было только разделение труда. Его указание о переоснащивании судов имеет совершенно иное значение. Не зная, что представляет собой путь «из варяг в греки» в действительности, он неверно все понял.
Совершенно очевидно, что, совершая далекое и опасное путешествие, хотя бы и вдоль берегов, купцы не могли совершать его в однодревках — современных «душегубках». Лодки должны были помещать в себе не только людей, товары, запасы пищи и питья, но и весла, паруса и проч. снасти, о них у Багрянородного сказано ясно.
Нам лично известны однодревки-гиганты из лесов б. Вологодской губернии. Конечно, в старину такие вековые деревья встречались чаще, но мы все-таки сомневаемся, что «руссы» употребляли только однодревки, не снабжая их дополнительными бортами, увеличивающими грузоподъемность и т. д.
Из летописей мы знаем, что в лодках Олега в его походе на Царьград сидело по 40 человек. Если принять, что кроме них были запасы пищи, воды, одежды, снасти, оружие и должно было быть место для награбленного, то это должны были быть довольно солидные суда, а не «однодревки». Эти суда, как известно, не только ездили вдоль берегов, но и пересекали море.
Однако главное не в этом. Как известно, едущие из Новгорода перетаскивали свои суда посуху в двух местах. Это были чрезвычайно тяжелые операции. В этих условиях громоздкие, тяжелые, морские суда просто не под силу было тащить посуху, ведь техника того времени была весьма низка. Не только самая операция была тяжела, но она могла серьезно отразиться и на состоянии лодок, ибо без повреждений всякого рода обойтись было нельзя.
Представляется вполне достоверным, что первую часть пути купцы совершали в малых лодках, достаточных для речного плавания и удобных для перетаскивания по суше. По прибытии же в Киев мелкие суда оставлялись, и все грузилось на более крупные суда, новые, крепкие, способные выдержать и езду по порогам, и долгое морское плавание. Здесь происходила только оснастка новых судов, самые же суда покупались в готовом виде.
Таким образом, суть дела была не в том, что «славяне» снабжали «руссов» новыми судами, а те приезжали в старых, а в том, что в Киеве совершалась замена типа лодок на более солидные. Если бы дело было только в старости судов, то можно заверить Багрянородного, что леса Севера и встарь доставляли великолепные древесные колоды, а сделать из них лодки не представляло труда, ибо как раз новгородцы были искуснейшими плотниками.
Земледельцы (всех племен! славянских и неславянских), свободные зимой от полевых работ, имели в это время дополнительный заработок, изготовляя лодки для путешествия из Киева. Купцы (также всех племен!) покупали эти суда, так как нуждались в них для морского путешествия.
«В июне месяце, двинувшись по реке Днепру, они спускаются в Витичев, подвластную Руси крепость. Пождав там два-три дня, пока подойдут все однодревки, они двигаются в путь и спускаются по названной реке Днепру».
Срок, указанный Багрянородным, кажется нам весьма поздним для поездки из Киева; очевидно, задерживала отправку северная, новгородская группа, без которой нельзя было обойтись.
В начале мая уже вся система Днепра свободна ото льда и достаточно полноводна. Что можно было выехать из Киева значительно раньше, говорит обстоятельство, что первое нападение на Царьград было в середине июня, т. е. все путешествие было уже проделано.
Витичев находится всего в нескольких часах плавания вниз от Киева и представлял собой в те времена несомненно крепость, защищавшую с юга Киев от нападений печенегов.
Интересно, что путешествие совершалось сообща, как единая операция, — это обеспечивало от нападений печенегов и несомненно помогало в трудных участках пути, где нужна была объединенная физическая сила.
«Прежде всего они приходят к первому порогу, называемому “Эссупи”, что по-русски и по-славянски означает “не спи”. Этот порог настолько узок, что не превышает ширины циканистрия (дворцового гипподрома); посередине его выступают обрывистые и высокие скалы наподобие островков. Стремясь к ним и поднимаясь, а оттуда свергаясь вниз, вода производит сильный шум и (внушает) страх. Поэтому руссы не осмеливаются проходить среди этих островков, но, причалив вблизи и высадив людей на сушу, а вещи оставив в однодревках, после этого нагие ощупывают ногами дно, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь камень; при этом одни толкают шестами нос лодки, а другие — середину, третьи — корму. Таким образом, они со всеми предосторожностями проходят этот первый порог по изгибу берега».
Из этого отрывка ясно, что описание сделано со слов очевидца, проделавшего путь с руссами из Киева. То, что несколько человек толкали нос, другие середину, третьи корму, что из лодок высаживали людей (рабов в цепях, см. ниже), говорит о значительной величине лодки. Наконец, совершенно очевидно, что операция эта была опасна и трудна.
«Пройдя этот порог, они опять, приняв с берега остальных, отплывают и достигают другого порога, называемого по-русски “Улборои”, а по-славянски “Островунипрах”, что значит “остров порога”. И этот порог подобен первому, тяжел и труден для переправы. Они опять высаживают людей и переправляют однодревки, как прежде.
Подобным образом проходят они и третий порог, называемый “Геландри”, что по-славянски значит “шум порога”. Затем также (проходят) четвертый порог, большой, называемый по-русски Аеифор, а по-славянски Неасит, потому что в скалах порога гнездятся пеликаны. На этом пороге все ладьи причаливают к земле носами вперед, отряженные люди сходят держать стражу и уходят; они неусыпно держат стражу из-за печенегов.
Остальные, выбрав поклажу, находившуюся в однодревках, и рабов в цепях, переводят их сухим путем 6 миль, пока не пройдут порога. Затем они тащат свои однодревки волоком, другие несут на плечах, и таким образом переправляют на другую сторону порога, спускают их потом в реку, грузят поклажу, входят сами и продолжают плавание».
Таким образом, четвертый порог, именно Ненасытец, вовсе не пересекался лодками, а обходился сухим путем. Более легкие однодревки несли на плечах, более тяжелые — волокли по земле. Поклажа переносилась отдельно. Все это производилось под ежеминутной опасностью нападения печенегов.
Нам кажется, что непроходимость Ненасытца преувеличена Багрянородным. Во-первых, самое название показывает, что этот порог ненасытно поглощал лодки, — следовательно, находились и такие, которые рисковали плыть прямо через порог. Во-вторых, в недавнее время пороги довольно часто использовались крупными лодками, только, чтобы не подвергаться излишней опасности, брали специальных лоцманов, знавших каждый порог, как свои пять пальцев. В опытных руках крушения случались редко.
Обращает на себя внимание, что только здесь была особая опасность подвергнуться нападению печенегов; отчасти это понятно: нападение было удобно тем, что переправляющиеся растягивались в длинную узкую цепь и таким образом распыляли свои силы. Почему, однако, нападения не производились на первых трех порогах, не совсем ясно. Вообще, если пороги находились в области печенегов, непонятно, почему они не контролировали торговлю в этом пункте, взимая хотя бы пошлину.
«Прибыв к пятому порогу, называемому по-русски Баруфорос, а по-славянски Вулнипрах, потому что он образует большую заводь, и, опять переправив однодревки по изгибам реки, как на первом и втором пороге, они достигают шестого порога, по-русски называемого Леанти, а по-славянски Веруци, что значит “бурление воды”, и проходят его таким же образом. От него плывут к седьмому порогу, называемому по-русски Струкун, а по-славянски Напрези, что значит “малый порог”, и приходят к так называемой Крарийской переправе, где херсониты переправляются на пути из Руси, а печенеги в Херсон».
Из этого отрывка видно, что седьмой порог был настолько мал, что через него просто плыли, — по крайней мере о том, что здесь сходили на берег, не сказано ни слова.
Крарийская переправа, очевидно, современная Кичкасская, ею пользовались греки-херсониты, т. е. жители Херсона в Крыму, когда они ездили в Русь сухим путем; этой же переправой пользовались правобережные печенеги, чтобы попасть в Херсон. О купцах руссах, ездивших сухопутьем, Багрянородный здесь ничего не говорит, но ниже мы увидим намек на них.
«Эта переправа шириной приблизительно равна гипподрому, высота же, сколько можно судить глазами, от самого низа такова, что может долететь стрела. Поэтому печенеги приходят сюда и нападают на руссов».
Место это изложено очень сбивчиво и неясно: непонятно, что дает основание печенегам нападать на руссов. Если руссы в лодках плывут по Днепру, то вряд ли печенеги могут нанести им какой-то вред, да и что за смысл стрелять только ради того, чтобы выпустить стрелы.
Нападать на лодках печенеги не могли, ибо были кочевниками, и плавание по рекам было им совершенно чуждо. Даже если бы это было так, то они могли делать это по всему течению, а не только у Крарийской переправы.
Нам кажется, что речь здесь идет о руссах, торгующих с Херсоном сухим путем, в этом случае понятно, что печенеги могли устраивать на русских купцов засады у переправы, которой они миновать не могли.
«Пройдя это место, они достигают острова, называемого островом Св. Григория (Хортица), и на этом острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огромный дуб. Они приносят в жертву живых птиц. Кругом втыкают стрелы, а иные (приносят) куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай. Насчет птиц они бросают жребий, — зарезать ли их (в жертву), или съесть, или пустить живыми. От этого острова руссы уже не боятся печенегов, пока не достигнут реки Селины».
Интересно, что Хортицу информатор Багрянородного назвал островом Св. Григория, что было безусловно греческим именем, ибо в это время (несомненно до 950 г.) христианство не было широко распространено, и руссы не имели никаких оснований, будучи язычниками, называть остров на христианский лад. Да, наконец, ясно, что остров уже имел свое имя задолго до христианства.
Наличие греческого названия для острова Хортица позволяет допустить возможность чисто греческих названий и для порогов Днепра, находящихся тут же поблизости.
В отношении реки Селины Багрянородный забегает вперед, указывая часть пути, безопасную от печенегов, но, как будет видно из дальнейшего, он и здесь что-то напутал.
«Затем, двинувшись от этого острова, они плывут около 4-х дней, пока не достигнут лимана, составляющего устье реки».
Если грубо подсчитать расстояние, отделяющее пороги от устья Днепровского лимана, которое руссы покрывали за 4 дня, то расстояние от Киева и до конца порогов будет раза в 2 больше. Поэтому одно плавание от Киева и до устья занимало не менее 12 дней.
Сколько дней отнимали пороги — судить трудно, во всяком случае от Киева и до устья Днепра ехали не менее 2 недель.
«В нем (лимане) есть остров Св. Эферия (ныне Березань). Пристав к этому острову, они отдыхают там 2–3 дня и опять снабжают свои однодревки необходимыми принадлежностями: парусами, мачтами и реями, которые они привозят с собой».
И здесь информатор Багрянородного немного путает. Что значат слова — «опять снабжают»? Еще в Киеве лодки были снабжены всем необходимым. За время путешествия, хотя бы в 2–3 недели, не могло все износиться, чтобы надо было опять снабжать.
Суть дела иная: начиналось морское плавание, в основном рассчитанное на паруса, следовательно, надо было укрепить мачты, поставить реи и т. д. Хотя руссы далеко от берега не отходили, но несомненно некоторые участки моря пересекали, пользуясь только парусами; но одно дело паруса на реке, а другое дело на море.
«А так как этот лиман, как сказано, составляет устье реки и доходит до моря, а со стороны моря лежит остров Св. Эферия, то они оттуда уходят к реке Днестру и, благополучно достигнув ее, снова отдыхают».
Здесь в переводе есть расхождение с текстом: и в греческом, и в латинском тексте сказано не «к Днестру», а «к Днепру». Переводчик, руководствуясь смыслом, исправил ошибку, ибо не могли руссы уходить из устья Днепра к устью Днепра же. Здесь какое-то недоразумение с текстом, что и видно из дальнейшего.
«Когда наступит благоприятная погода, они, отчалив, приходят к реке, называемой Белою, и, отдохнувши там подобным образом, снова двигаются в путь и приходят к Селине, так называемому ответвлению реки Дуная».
Указание, что между Днестром и северным рукавом Дуная (Селиной) была еще река Белая, является совершенно загадочным и просто фантастическим.
Между Днестром и Дунаем нет никакой мало-мальски значительной реки, достойной упоминания. Наконец, расстояние между Днестром и Дунаем не настолько значительно, чтобы необходимо было еще отдыхать где-то на полпути. Вряд ли, кроме того, Багрянородный мог путать что-то в области, уже совсем близкой к Византии.
Нам кажется, что дело тут в тексте, либо в его искажении, либо в плохом понимании. Прежде всего, в греческом тексте нет названия реки Белой, оно имеется только в латинском переводе. Слово «aspron» означало «белый город» (Белгород славян, Ак-кермен турок, Четатеа Алба румын). И недаром на карте, приложенной к труду Ансельма Бандуры, против устья Днестровского лимана поставлено «Albus fl.», а в отношении Aspron добавлено «Alba civitas» — «Белый город» (лат.). Таким образом, «река Белая» — это Днестр, при таком понимании Багрянородный географической ошибки не допускает. Дальнейший текст также в этом случае согласуется с предыдущим вполне.
«Пока они не минуют Селины реки, по берегу за ними бегут печенеги. И если море, что часто бывает, выбросит однодревки на сушу, то все они вытаскивают их на берег, чтобы вместе противостать печенегам. От Селины они уже никого не боятся».
Здесь явное противоречие сказанному выше: то руссы «уже не боятся печенегов, пока не достигнут реки Селины» (от острова Хортица), и, следовательно, от Селины они опять начинают бояться печенегов, то руссы не боятся печенегов, начиная от Селины (что действительно верно). Если руссы не боятся печенегов до Селины, то как связать это с указанием, что те до Селины бегут за ними по берегу и нападают при малейшем удобном случае? Это противоречие, вероятно, не есть вина переводчика или Багрянородного, а самого информатора последнего.
«И вступив на Булгарскую землю, входят в устье Дуная».
Зачем им надо входить в устье Дуная — совершенно непонятно; путь в Царьград лежал прямо перед руссами вдоль дельты Дуная. Для пополнения запасов пресной воды достаточно было стать у устья Дуная, а не заходить в него.
«От Дуная они доходят до Конопа, оттуда до Констанции, и до реки Варны. От Варны приходят к реке Дичине, — все эти места находятся в Булгарии, — от Дичины достигают они области Месимврии; здесь оканчивается их многострадальное, страшное, трудное, но тяжелое путешествие».
Мы исправили явно нелепый перевод, в переводе академического (!) издания сказано: «по реке Варне». По-гречески сказано: «tou potamon Barnas», по латыни: «ad flumen Varnas», что означает — «к реке Варне». Согласно же переводу получается, что от Конопа можно попасть в Констанцию по реке Варне. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидать, что Констанца ничего общего не имеет с рекой Варной. Этот пример наглядно показывает крайнюю необходимость нового и точного перевода сочинения Багрянородного, надо не только переводить, но и понимать, что переводится.
Скверный перевод бросает тень на достоверность свидетельства Багрянородного, что мы и допустили лично вначале, и только потом, ознакомившись с оригиналом, поняли, что виноват не Багрянородный, а переводчик. Многие ли, однако, пользовались оригиналом Багрянородного?
«С наступлением ноября месяца их князья выходят со всеми руссами из Киева и отправляются в “полюдье”, т. е. круговой объезд по городам, именно в славянские земли вервианов, другувитов, кривичей, северян и остальных славян, платящих дань руссам. Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на Днепре, снова возвращаются в Киев.
Потом, получив, как сказано выше, однодревки, тем же указанным способом спускаются в Византию…»
Перейдем теперь к выводам. Прежде всего, ясно, что и греческий текст, и латинский, и русский переводы далеки от совершенства и, чтобы понимать Багрянородного как следует, надо еще много поработать над его текстом.
Однако уже теперь ясно, что Багрянородный — источник отнюдь не безупречный, многое он путает или не совсем верно понимает. Переоценивать его нельзя. Баумгартен рассыпает ему комплименты по поводу хорошего знания им славян, что он лично принимал у себя княгиню Ольгу, что он прекрасно отличал «руссов» от «славян». Баумгартен забывает, что Багрянородный принимал у себя Ольгу осенью 957 года, в 959 году умер, а сочинение свое написал около 950 года, т. е. задолго до приезда Ольги, что и видно по его плохой осведомленности о делах на Руси.
Об Ольге, бывшей фактической руководительницей государства, он не говорит ни слова, а между тем, когда семь лет спустя лично познакомился с ней, то послал послов напомнить о договоре не к Святославу, а к ней, т. е. реальному князю Руси. Все это показывает, что в «De administrando imperio» знания Багрянородного о Руси были крайне низки. Уж если государь не знает, кто в действительности, а не номинально, правит в соседнем государстве, — знания его крайне бедны.
Таким образом, верить каждому слову Багрянородного мы просто не имеем права, мы не можем выдергивать из его текста куски фраз и считать их безусловно достоверными, когда тут же рядом имеются данные, заставляющие сомневаться в достоверности взятого отрывка. Мы можем пользоваться данными Багрянородного только после критического анализа. К анализу того, что он понимал под термином «русс», мы сейчас и переходим.
Прежде всего, Багрянородный нигде не употребляет термина «варяги», широко распространенного в византийской литературе; не употребляет он, конечно, и термина «норманны», принятого в западноевропейских странах.
Нигде, далее, во всех его сочинениях нельзя найти даже намека, что «руссы» — это варяги или скандинавы или вообще люди иного корня, чем славяне. Он просто называет одних «руссами», а других «славянами», считая последних данниками первых.
Что же понимал Багрянородный под термином «Росиа»? Называя Новгород, Смоленск и т. д. внешней (дальней) Россией, Багрянородный тем самым предполагал и существование «ближней» Росии. И действительно, в 37-й главе своего сочинения, говоря о печенегах, он пишет следующее: «Округ (печенегов) Хоробое соседит с Русью, округ Ябдертим соседит с платящими дань Руси “ултиносами”, “дерблениносами”, “лензаниноисами” и прочими славянами (“склабоис”)».
Таким образом, Киевская область считалась Багрянородным «Русью» (очевидно «ближней или «внутренней»), а уличи или улутичи («ултиноси»), деревляне («дербленинос»), загадочные «лензанинос» и прочие славяне были данниками-соседями.
Интересно, что Вильгельм де Лиль, снабдивший в 1729 году сочинение Багрянородного специальной картой, поясняющей взаимоотношения географических пунктов и областей, упомянутых Багрянородным, проводит границу, отделяющую округ Хоробое печенегов от Руси по реке Роси.
Граница Руси охватывает истоки Роси и Тетерева с запада и уходит прямо на север к каким-то крупным озерам, южнее которых де Лиль помещает «крибитеинов» (очевидно кривичей) и «лензанинов», добавляя при каждом названии — «славяне».
Какими он пользовался источниками — неизвестно, но, очевидно, опирался на гораздо более древние карты, бывшие в его распоряжении, сам же он был ученым географом Академии наук. Его свидетельство не только поясняет Багрянородного, но и подкрепляет его, ибо он опирался безусловно на какие-то иные древние источники до 1729 года.
К сожалению, в докладной записке, приложенной к его карте, об источниках ничего не сказано. Большая часть ее посвящена расшифровке географических названий Багрянородного: Cioabam (Ciabum), Busegardam, Tzernigogam, Nemogardam et Miliscam он противопоставляет: Kiovie, Vizgrad, Tzernigove, Novogorod и Msenesk. Из карты видно, что в «Новгороде» он видел Новгород Северский, а в Miliniscam — Мценск! Вообще, очевидно, что по мере продвижения на север географические пункты и их взаимоотношения делаются все более и более неверными, а самый Север почти принадлежит области фантазии. Однако пропорции нижней части карты довольно правдоподобны.
Как бы то ни было, а Багрянородный, вне всякого сомнения, помещал Русь на среднем течении Днепра с центром в Киеве и под собственно руссами мог понимать только полян с правящей верхушкой, ибо если бы он понимал под «руссами» варягов, то варяги могли жить только в Киеве, а между тем область печенегов граничила с целой областью россов. Киевская область и есть «Россиа» sui generis (лат. «своего рода»).
Этой Руси, по мнению Багрянородного, подчинялся целый ряд славянских племен, как-то: улутичи, древляне, дреговичи, кривичи, «лензанины», северяне и т. д. Центром Руси был Киев, ибо отсюда уходили русские князья «со всеми руссами» в полюдье осенью ко всем перечисленным племенам славян за данью, и сюда же возвращались они с ней.
Этим сведениям, подтверждаемым и другими источниками, противоречит фантастическое указание, что Святослав княжил в Новгороде, т. е. что столицей Руси был не Киев, а Новгород, — оно должно быть решительно отброшено, как основанное частично на явной ошибке, частично на устарелом сведении.
Таким образом, Багрянородный знал всю Русь в целом от Новгорода и до Киева, однако деление ее на «ближнюю» и «дальнюю» было неверным. Вышгород, находящийся на расстоянии 12–14 км от Киева и игравший все время роль почти пригорода Киева, не мог относиться к «дальней» Руси. Равным образом и Чернигов, и Любеч всегда были в сфере влияния Киева. Иное дело — Смоленск и Новгород. В общих же чертах, картина, нарисованная Багрянородным в отношении государства «Русь», довольно верна.
Но кто же были сами «руссы»? То, что они управляли славянами, еще ничего ровно не говорит об их национальности. Современные русские тоже управляют украинцами, белоруссами, но это не значит, что они являются народом совсем другого корня, вроде, скажем, германцев, татар или китайцев. Руссы могли быть теми же славянами, но в ходе истории получившими преобладание над другими, хотя бы благодаря своему положению на большой реке.
Были ли они чужестранцами в большом количестве, захватившими власть над славянами и сосредоточившими в своих руках военную мощь, управление государством и торговлю, или это была только небольшая особая классовая прослойка, как это представляют себе С. В. Юшков и другие? На это свидетельство Багрянородного дает довольно ясный ответ.
Из описания торговой экспедиции из Новгорода в Царьград видно, что «руссы» Багрянородного отнюдь не принадлежали к верхушке общества того времени.
Голые, ощупывая ногами каменистое дно, перетаскивали они на себе лодки и груз, отбиваясь подчас и от печенегов, и уж, конечно, работая, как рабы, веслами, особенно до Киева, возвращаясь из Царьграда и добираясь до системы Днепра, идучи в Царьград.
В судах, мало приспособленных для морского плавания (ибо они даже подчас выбрасывались волнами на берег), руссы шли на отчаянный риск и выполняли невероятной трудности работу; недаром Багрянородный называет их странствование «многострадальным, страшным, трудным и тяжелым».
Совершенно очевидно, что этим делом занимались не властители, завоеватели или богачи-толстосумы, словом, не верхушка тогдашнего общества, а самый черный, трудовой народ, костяк нации.
На это дело шли самые крепкие телом и духом, прибыль доставалась потом и кровью. Это, наверное, не была торговля в современном понимании этого слова, когда торговцами «sui generis» являются люди, продающие чужие продукты, — это был прежде всего обмен продуктами, добытыми самим продуцентом.
Известно, что северные области Древней Руси и в прошлом не отличались особым плодородием: ссылки на неурожай переполняют новгородские летописи, о голодовках, морах мы встречаем указания на каждом шагу. В этих условиях торговля мехами, шкурами, медом, воском и прочими продуктами страны являлась дополнительным источником дохода населения.
Именно поэтому новгородская область и была ядром организации торговых экспедиций в Царьград; более богатые южные племена принимали меньшее участие в этих экспедициях, но несомненно и они играли значительную роль в них, они, прежде всего, могли доставлять грекам хлеб, в котором те всегда нуждались.
Таким образом, «руссы», торговавшие с Царьградом, и «руссы», уходившие с князьями на «полюдье», были в отношении общественной функции совершенно различными группами.
Руссы-купцы были не привилегированными иностранцами-скандинавами, а славянами, главным образом северными, производившими обмен продуктов с Византией; если среди них и были настоящие торговцы, то их было не много. На каком языке они говорили, видно из того, что они, «руссы», называли первый днепровский порог «Не спи!», а последний — «Струкун». Скандинавская теория Руси совершенно бессильна объяснить явно славянское происхождение этих названий.
Из сказанного ясно, что название новгородских купцов Багрянородного «руссами» (если понимать под этим скандинавов) является плодом путаницы понятий, и только, — «руссы-купцы» были в первую очередь и преимущественно славяне. Другой группой были «руссы»-воины. Багрянородный говорит, что «все руссы» уходили в ноябре с князьями из Киева к славянским племенам за данью, где и оставались до апреля на прокормление. В этом отрывке много нелепостей, которые мы и рассмотрим постепенно.
Если «руссами» были только воины-скандинавы (раз они могли пойти «все»), то не могла же Киевская область называться Русью по их имени, а не по имени целого племени, населяющего не только самый Киев, но и всю Киевщину.
Далее, выражение «все», конечно, нельзя понимать буквально, оно говорит только, что уходило много людей. Это была демонстрация силы перед данниками, и вместе с тем каждый дружинник получал на месте продовольствие, одежду и уплату за свою службу князю.
Полюдье не было системой «податных инспекторов», собирающих налоги, но узаконенный грабеж, доходивший даже до того, что князь, только что получивший дань, еще раз возвращался для дальнейшего «рысканья» (вспомним случай со смертью Игоря).
В дружине князя было, конечно, немало наемных воинов-скандинавов, но нет никакого сомнения, что основная масса дружины была славянская, финская и т. д., но не германская. Если бы скандинавы представляли собой значительные массы вооруженных людей, объединенных языком, профессией, совместными интересами, то мы несомненно имели бы немало случаев столкновений их с населением или даже с самим князем на почве материальных разногласий. Этого в истории мы не находим. Несколько весьма немногих случаев пребывания варягов на Руси большими массами отмечены как исключительные случаи, но и в этих случаях и народ, и сами князья старались избавиться от них поскорее.
Поэтому масса «руссов», отправлявшаяся в полюдье на 5–6 месяцев, не могла также состоять преимущественно из скандинавов. Наоборот, можно предполагать, что именно скандинавы, т. е. воины-профессионалы, оставались в Киеве и различных городах, ибо с уходом князей должен же был кто-то оставаться для защиты Киевской и других пограничных областей от печенегов и других врагов: те ведь тоже не дремали, зная, что на полгода нет ни князя, ни войска.
Естественно было оставить под руководством опытных воевод именно настоящих воинов, которые на такого рода службу специально и нанимались, а потом одарить их из дани, собранной на полюдье.
Таким образом, и в «руссах», уходивших на полюдье, мы не можем видеть воинов-скандинавов.
Есть в данных Багрянородного и другие несообразности. Он говорит, что все руссы уходят из Киева с князьями. Прежде всего, в Киеве всегда был один князь. Этот князь, принимая во внимание состояние дорог в те времена и огромные просторы Руси, ни в коем случае не мог даже за полгода объехатъ, выколачивая дань, всю Русь. На деле было иное: каждый князь в своей волости совершал «полюдье», а известная часть дани поступала в Киев.
Далее, по Багрянородному, получается, что «руссы», вернувшись в апреле в Киев, покупают у «славян» лодки и едут в Царьград. Значит, вся жизнь их проходит в езде: 6 месяцев в полюдье, 6 месяцев в путешествии в Царьград и обратно. Не слишком ли уж считает Багрянородный «руссов» за коммивояжеров?
Если они воины-скандинавы, то когда же они охраняют государство, если они все время в отсутствии? Если они купцы, все время странствующие, то какая сила удерживает многочисленные племена славян почти от Балтийского и до Черного морей от распада?
Сбивчивость в изложении Багрянородного вполне понятна: на Руси он не бывал, сведения о ней он имел, по-видимому, не только из одних рук, и проверить их не мог, поэтому он мог только передать их, не критикуя, что он и сделал.
Отсюда и получается, что столица Руси то в Новгороде, то в Киеве; то киевляне платят дань «руссам», то новгородцы платят ее «руссам»-новгородцам; в одном месте «руссы» — это преимущественно торговцы, в другом — воины, собирающие дань; здесь только «руссы» ездят в Царьград, а «славяне» сидят на месте, а рядом излагаются «славянские» названия порогов, а «русские» отодвинуты в тень; в одном месте «руссы» — это социальная прослойка (будь то купцы или воины), в другом месте — это огромный народ, держащий в повиновении просторы от Балтийского и до Черного морей; тут они чужеземцы, давшие побежденным свое имя, там они исконные обитатели Киевской земли, прирожденные славяне, и т. д.
Все эти несообразности объясняются только тем, что Багрянородный плохо разбирался в положении дел на Руси, он путал, подобно другим, «руссов» и «славян», он не знал элементарнейших вещей, например, что Новгород стоит не на Днепре, впадающем в Черное море, а на Волхове, принадлежащем к системе Балтийского моря, и т. д.
А отсюда кардинальный вывод: если Багрянородный и отличал «руссов» от «славян», то он этой разницы сам как следует не знал. Использовать его данные в пользу норманистской теории нельзя уже потому, что они сбивчивы, противоречивы, и основываться на них — это значило бы строить здание на песке.
Мы уже видели, что оба названия последнего днепровского порога («по-русски» и «по-славянски») на деле оказываются славянскими. Значит, Багрянородный путал два славянских имени, но, будучи иностранцем, конечно, не мог разбираться в тонкостях. Ведь мы живем в XX веке, а между тем для миллионов культурных западноевропейцев с университетским образованием разница до сих пор между русскими, украинцами и белоруссами вовсе неясна. Что же мы можем требовать от информаторов Багрянородного, живших более 1000 лет назад?!
Данный текст является ознакомительным фрагментом.