Пример сочинения ЕГЭ 2022 по реальному тексту И.А. Гончарова «Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить?«
Исходный текст
Как должен жить человек? Именно этот вопрос волнует автора предложенного для анализа текста.
И.А. Гончаров раскрывает проблему, предлагая читателям стать невидимыми участниками спора двух героев – Райского и Козлова. Леонтий Козлов является сторонником принципа «жить про себя и для себя». Он считает, что общество утратило связь с предками: современный человек потерял «дорогу», утратил «секреты» предков. В современном мире осталась лишь «низость», «мелочи» и «дрянь». Герой не верит в людей, потому предпочитает проводить время за книгами, в которых рассказывается о великих людях, их открытиях, добродетелях. Несмотря на разочарование в обществе, герой все же кое-что сделал для чего – «несколько поколений студентов к университету приготовил». Рассуждения Козлова позволяют читателям сделать выводы о нем, создать «портрет». Мы понимаем, что Козлов -неплохой человек, он работает в сфере образования, готовит студентов, но ему крайне не хватает веры в людей, а без этого невозможно по-настоящему «подготовить» студентов ни к университету, ни к жизни.
Совершенно иначе на жизнь и современное общество смотрит Райский. Даже фамилия его словно «намекает» читателю на его идеалистическую натуру. Райский уверен, что «»для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба». Он называет Козлова «барашком», осуждает его подход к жизни. Он рассуждает о свободе, прогрессе, призывает оппонента «оставить римлян и греков», предлагает «разбудить» общество, вывести его из состояния застоя. Когда же Козлов интересуется тем, как он собирается это сделать, Райский отвечает: «Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале». Все высказывания Райского выглядят пустыми, ведь за его словами не стоят какие-либо действия. Мы понимаем его позицию, даже соглашаемся, но его пространные высказывания не помогают лучше понять, что же именно следует делать. Однако он все же дает рецепт правильной жизни – жить не только для себя, стараться делать мир лучше, способствовать прогрессу. Со справедливостью этих высказываний трудно спорить.
Писатель намеренно используем прием умолчания, чтобы читатель смог сам сделать выводы. На мой взгляд, автор не разделяет ни позицию Козлова, ни позицию Райского.
Мне кажется, что Гончаров пытается донести до читателя мысль о том, что жить нужно деятельно. Нельзя прятаться от реальной жизни в книгах, но и отрицать опыт поколений не стоит. Настоящая жизнь в реальных поступках, свершениях. Не обязательно для этого с кем-то бороться. Нужно стараться улучшать мир вокруг себя, работать на благо общества. Причем делать это не только на словах.
Я разделяю позицию автора. Мне кажется, что спор о том, как нужно жить, можно назвать вечным. Из такого спора никто не выходит победителем. Однако можно сделать один вывод, который будет близок и понятен всем: если мы не действуем, мы не живем. Потому спор Кирсанова и Базарова из романа И.с. Тургенева мы называем вечным, но все же стараемся найти золотую середину: чтим предков, но не забываем о прогрессе. А главное – действуем.
В заключение я хотела бы сказать, что жить можно, конечно, по-разному. Главное, на мой взгляд, ощущать, что живешь не зря. А чтобы это чувствовать, безусловно, нужно делать что-то полезное в жизни. Может быть, не все мы способны менять целый мир, но повлиять на жизнь близких можем.
Готовые сочинения по тексту Гончарова И.А «Анна Павловна прикрыв одной рукой глаза от солнца» для задания №27 ЕГЭ по русскому языку 11 класс, текст из нового сборника Цыбулько И.П 36 тренировочных вариантов.
Сочинение ЕГЭ №1
Что является причиной того, что многие представители молодежи не готовы к преодолению жизненных трудностей? Какова роль родителей в формировании данного умения? На эти вопросы отвечает русский писатель И.А. Гончаров.
Проблема неготовности молодого человека к преодолению жизненных трудностей раскрывается через демонстрацию становления личности Александра Федоровича и особенностей его воспитания матерью Анной Павловной.
Автор отмечает, что Александр «о горе, слезах, бедствиях знал только по слуху», поэтому «будущее представлялось ему в радужном свете». В «сладкий трепет» приводили героя «обольстительные призраки», «то голос славы, то любви». В тексте подчеркивается, что у Александра не было «настоящего взгляда на жизнь».
Но почему же Александр Федорович оказался таким неподготовленным к реальной жизни? И.А. Гончаров отмечает, что сын Анны Павловны «был избалован», что «мать лелеяла и баловала его». В тексте выражена следующая мысль: из-за того, что Анна Павловна чрезмерно любила Александра, «думала за него ежеминутно», «отводила от него каждую заботу и неприятность», не «давала ему самому почувствовать приближение грозы, справиться со своими силами и подумать о своей судьбе», Александр не был подготовлен к «борьбе с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди».
Авторскую позицию можно сформулировать следующим образом: чрезмерная родительская опека, ограждение ребенка от забот и неприятностей не дают ему обрести «настоящий взгляд на жизнь», не развитое родителями умение думать и действовать самостоятельно мешает молодому человеку преодолевать жизненные трудности.
С автором текста нельзя не согласиться. Гиперопека родителей мешает ребенку познавать окружающий мир таким, каким он является на самом деле, поэтому, когда приходит пора выходить во взрослую жизнь, молодой человек, не привыкший к самостоятельным решениям, сталкивается с большими трудностями, которые ему сложно разрешить. Чтобы доказать эту точку зрения, можно обратиться к нескольким художественным произведениям отечественных писателей.
В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» показано, что чрезмерную опеку к своему сыну проявляет госпожа Простакова. Постоянно стремясь его «понежить», готовая всегда «вступиться» за него героиня называет Митрофанушку «одной своей заботой, одной своей отрадой», отмечая, что ради него она «готова драться хоть с отцом родным». Д.И. Фонвизин показывает, что «безумная любовь» героини, ее стремление оградить сына от проблем и бед, сделать его жизнь как можно проще лишь губило Митрофанушку, который не имел никаких представлений о том, как существовать в мире.
Поднятая в тексте проблема находит отражение и в романе И.А. Гончарова «Обломов». Любознательность, свойственная маленькому Илье Ильичу Обломову, не поддерживалась родителями, которые, беспокоясь за жизнь и здоровье ребенка, прививали ему любовь к тихому и спокойному, ленивому и бездеятельному существованию. Демонстрируя взрослую жизнь Обломова, который не мог позаботиться о собственном имении и не стремился претворить свои планы в жизнь, автор подчеркивает, что причиной неготовности к реальной действительности является чрезмерная опека, которую в детстве проявляли к нему родители.
Подводя итоги к сказанному, можно отметить, что чрезмерная родительская опека лишает ребенка возможности самому справляться со всеми трудностями, с которыми сталкивается любой человек на своем жизненном пути.
Сочинение ЕГЭ №2
Материнская любовь – это самое сильное чувство на земле. Сложно найти человека, который был бы настолько готов к самопожертвованию, как мать, любящая родного ребёнка. Такое чувство и называют безусловным, его проявление можно считать подвигом. В предложенном тексте И.А. Гончарова поднимается проблема жертвенности материнской любви.
Так, главный герой мечтает поскорее уехать из родного дома, так как его влечёт призрак прекрасного будущего. Юноша видит себя героем, который приносит пользу Отечеству, и писателем, потому что чувствует желание творить и созидать. Конечно, матери сложно принять отъезд любимого сына, поэтому она пытается уговорить его остаться. Но при этом женщина не хочет, чтобы Александр неправильно её понял: «Ну, мой друг, поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь». Автор размышляет о невероятной силе материнской любви, ведь мамы любят своих детей просто так, не требуют ничего взамен и «не ожидают наград». Именно поэтому героиня И.А. Гончарова соглашается отпустить сына, потому что хочет видеть его счастливым.
Конечно, Александр очень сильно сомневается, ведь в глубине души он чувствует вину перед матерью. «Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого». Герой ощущает, будто бы стоит на перепутье, но дороги назад уже нет. Он всё ещё сильно привязан к дому и своей маме, в сердце которой «отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну». Но Александр знает, что не может остаться, ведь «мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь». Мама героя тоже прекрасно это понимает и не упрекает его в эгоизме, а помогает укладывать вещи. Всё это доказывает, насколько сильно она любит своего ребёнка.
Оба аргумента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Приведённые примеры подтверждают размышления автора о силе бескорыстного чувства привязанности родителей к своим детям. Каждый из нас нуждается в такой поддержке, заботе и ласке со стороны старшего поколения. Итогом размышлений писателя становится такая позиция: «матери не ожидают наград», любят «без толку и без разбору».
Нельзя не согласиться с точкой зрения И.А. Гончарова. Действительно, сердце матери отдано своим детям. Вспомним, например, Арину Власьевну, мать главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Она обожала своего единственного сына Базарова и ласково называла его Енюшей. Каждую разлуку с ним женщина воспринимала как личную трагедию.
В заключение хочется обратиться к высказыванию известного литературного критика В.Г. Белинского: «Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери». Действительно, всякая другая привязанность значительно уступает тому чувству, которое переполняет материнское сердце.
Текст ЕГЭ
Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. — (2)Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой бог одел поля наши! (3)Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей соберём; а вон и пшеничка есть, и гречиха. (4)А лес-то как разросся!
(5)Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. (6)А дичи, дичи что! (7)И ведь всё это твоё, милый сынок: я только твоя приказчица. (8)Погляди-ка, озеро: что за великолепие! (9)Рыба так и ходит! (10)Вон твои коровки и лошадки пасутся. (11)Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. (12)А ты хочешь бежать от такой благодати… (13)Останься! (14)Александр молчал. — (15)Да ты не слушаешь, — сказала она. — (16)Куда это ты так пристально загляделся? (17)Он молча и задумчиво указал рукой вдаль.
(18)Там, между полей, змеёй вилась и убегала за лес дорога в обетованную землю, в Петербург. (19)Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами. — (20)Так вот что! — проговорила она уныло. — (21)Ну, мой друг, поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! (22)По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.
(23)Бедная мать! (24)Вот тебе и награда за твою любовь! (25)Того ли ожидала ты? (26)В том-то и дело, что матери не ожидают наград. (27)Мать любит без толку и без разбору. (28)Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясётся от радости, она плачет, смеётся и молится долго и жарко. (29)А сынок большею частью и не думает поделиться славой с родительницею. (80)Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери.
(31)Она сильнее прижимает к груди неудавшееся чадо и молится ещё долее и жарче. (32)Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? (33)Ему было двадцать лет. (34)Жизнь с пелёнок ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его; нянька всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессора твердили, что он пойдёт далеко.
(35)О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху. (36)От этого будущее представлялось ему в радужном свете. (37)Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. (38)Там мелькали обольстительные призраки, слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет. (39)Ему скоро тесен стал домашний мир. (40)Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести.
(41)Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. (42)Что ему эта любовь? (43)Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. (44)Мечтал он и о пользе, которую принесёт отечеству. (45)Он прилежно и многому учился. (46)В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. (47)Но более всего он мечтал о славе писателя. (48)Стихи его удивляли товарищей. (49)Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. (50)Он не знал, на который броситься. (51)Как же ему было остаться? (52)Мать желала — это опять другое и очень естественное дело.
(53)В сердце её отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. (54)Уж давно доказано, что женское сердце не живёт без любви. (55)Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. (56)Любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили в нём сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. (57)Это же самое, может быть, расшевелило в нём и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вольёшь в неё. (58)Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди.
(59)Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться со своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. (60)Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? (61)Читатель видел, какова она. (62)Не угодно ли посмотреть ещё? (68)Она уже забыла сыновний эгоизм. (64)Александр Фёдорыч застал её за вторичным укладыванием белья и платья. (65)В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.
По И. А. Гончарову
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик.
Проблемы текста
Анна Павловна прикрыв одной рукой глаза от солнца текст, проблема, сочинение ЕГЭ
ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ
Проблема жизненных ценностей личности
Текст: И. А. Гончаров. О взглядах на жизнь
24.01.2023 20:25:43
В течение своей жизни мы встречаем огромное количество людей. И у каждого из них есть свои жизненные ценности. Они могут отличаться от наших, а могут, наоборот, совпадать с ними. Проблеме жизненных ценностей личности посвящён текст И. А. Гончарова — русского писателя и литературного критика.
Раскрывая своё отношение к проблеме, автор показывает нам двух героев, чьи позиции абсолютно противоположны. Райский утверждает, что нельзя стоять на месте, необходимо двигаться вперёд. Он верит в прогресс. Райский стремится изменить свою жизнь, сделать её лучше. Он не понимает Леонтия Козлова, называет его “барашком”. Если ничего не делать в этой жизни, не добиваться каких-то целей, то жизнь станет скучной, и ты проживёшь её зря. Именно это и пытается донести Райский до своего оппонента.
Исследуя проблему далее, автор знакомит нас с позицией Козлова. Леонтий живёт по старым книгам, не хочет учиться чему-то новому, стоит на месте. Он хочет “жить сам про себя и для себя”. Козлов отрицает прогресс. Можно сказать, что Леонтий — консерватор, человек прошлого, не желающий идти дальше.
Примеры противопоставлены друг другу. Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально. Каждый человек решает сам, каких убеждений ему придерживаться.
Позиция автора заключается в словах Райского: пассивное состояние не является жизнью, необходима борьба, слово и дело. Человек, который не хочет действовать, не сможет чего-то добиться в жизни. И тогда он проживёт её впустую.
Трудно не согласиться с автором. Жизнь дана всего одна, и если бездействовать, то она будет потрачена зазря. Люди должны ставить перед собой цели, стремиться к чему-то, чтобы видеть смысл в жизни.
Нельзя не вспомнить героя рассказа А. П. Чехова “Человек в футляре”. Учитель греческого языка Беликов является человеком очень робким и пугливым. Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы. Учитель живёт прошлым и боится будущего. Всё время повествования Беликов повторяет одну и ту же фразу, которая тоже является своеобразным футляром: “Кабы чего не вышло”. Герой всю жизнь загонял себя в рамки, не давал волю чувствам и эмоциям и прожил жизнь зря. Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.
Таким образом, можно понять, что каждый человек имеет свои жизненные принципы и установки. У людей, даже близких, могут они как отличаться, так и совпадать. Каждый человек строит свою жизнь сам. Важно оставаться верным своим принципам, но есть одно “но”. Человек вряд ли сможет стать счастливым, наполнить её красками и яркими эмоциями, если будет жить, как Беликов.
Количество слов — 405
Здравствуйте! Работа самостоятельная, грамотная. Это является её достоинствами.
В соответствии с критериями проверки сочинений формата ЕГЭ – 2023 Ваша работа оценивается следующим образом.
К1 — Формулировка проблем исходного текста + 1 балл
Проблема определена верно, сформулирована некорректно.
Проблеме жизненных ценностей личности посвящён текст
Это тема. Добавьте отглагольное сущ.: роли, значения, формирования, определения…
K2 — Комментарий + 5 баллов
Пример 1 в сочинении указан, пояснен. Пример 2 указан, пояснен. Взаимосвязь между примерами определена верно, проанализирована формально.
Примеры противопоставлены друг другу. Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально. Каждый человек решает сам, каких убеждений ему придерживаться.
Нужно расписать, что именно противопоставлено, какие взгляды. Вы отделались общей фразой, «водой». Засчитываю анализ, но обратите внимание, что этого на ЕГЭ может быть вовсе не достаточно.
K3 — Отражение позиции автора исходного текста + 1 балл
Позиция автора относительно поставленной проблемы определена корректно.
K4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста + 1 балл
Отношение к позиции автора содержит согласие, тезис, обоснование тезиса.
K5 — Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – 0 баллов
Рекомендация
Если ничего не делать в этой жизни, не добиваться каких-то целей, то жизнь станет скучной, и ты проживёшь её зря. Именно это и пытается донести Райский до своего оппонента.
Поменяйте местами предложения: сначала пример, потом его анализ.
Ошибки:
Нельзя не вспомнить героя рассказа А. П. Чехова “Человек в футляре”.
Тезис и обоснование собственного мнения — один абзац.
Человек вряд ли сможет стать счастливым, наполнить её красками и яркими эмоциями, если будет жить, как Беликов.
Это микровывод в абзаце с обоснованием собственного мнения — перенести предложение туда.
Таким образом, можно понять, что каждый человек имеет свои жизненные принципы и установки. У людей, даже близких, могут они как отличаться, так и совпадать.
В выводе появился новый тезис, требующий доказательства.
Вывод = не повторение, а обобщение, прежние мысли на новом уровне, но не совсем новые мысли.
K6 — Точность и выразительность речи + 1 балл
Ошибки: нет максимума по К10
K7 — Соблюдение орфографических норм + 3 балла
K8 — Соблюдение пунктуационных норм + 3 балла
K9 — Соблюдение грамматических норм + 1 балл
Ошибки:
необходима борьба, слово и дело.
необходимЫ
Мн.ч. сказуемого при однородных подлежащих
Если бы Вы поставили кавычки и показали, что цитируете, ошибки не было: автор пишет так.
Учитель греческого языка Беликов является человеком очень робким и пугливым. Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы. Учитель живёт прошлым и боится будущего. Всё время повествования Беликов повторяет одну и ту же фразу, которая тоже является своеобразным футляром: “Кабы чего не вышло”. Герой всю жизнь загонял себя в рамки, не давал волю чувствам и эмоциям и прожил жизнь зря. Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.
Нарушение временной соотнесённости глаголов
K10 — Соблюдение речевых норм + 1 балл
Шероховатость
Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально.
Почти речевой штамп. Автор этого не говорит. Лучше эту фразу удалить — сочинение без него выиграет.
Ошибки:
Всё время повествования Беликов повторяет
Можно убрать выделенные слова — речевая ошибка уйдёт.
Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы.
Тавтология
Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.
Ту — какую?
Указательное слово подразумевает дальнейшее объяснение.
K11 — Соблюдение этических норм + 1 балл
К12 — Соблюдение фактологической точности в фоновом материале + 1 балл
Общие рекомендации: следует усилить работу над формулировкой проблемы, анализом связи в комментарии, логикой текста.
Удачи на ЕГЭ!
Баллы по критериям
К1 — Формулировка проблем исходного текста: 1
K2 — Пример 1: 1
K2 — Пояснение к примеру 1: 1
K2 — Пример 2: 1
K2 — Пояснение к примеру 2: 1
K2 — Анализ связи между примерами: 1
К2 — Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста: 5
K3 — Отражение позиции автора исходного текста: 1
K4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста: 1
K5 — Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения: 0
K6 — Точность и выразительность речи: 1
K7 — Соблюдение орфографических норм: 3
K8 — Соблюдение пунктуационных норм: 3
K9 — Соблюдение грамматических норм: 1
K10 — Соблюдение речевых норм: 1
K11 — Соблюдение этических норм: 1
К12 — Соблюдение фактологической точности: 1
Итоговый балл — 19
Возврат к списку
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского писателя Ивана Александровича Гончарова: «Язык есть не только говор, речь; язык есть образ всего внутреннего человека: его ума и того, что называют сердцем» По тексту Куприна А.И. (С поступления Буланина..)
Читать текст
Образец сочинения ОГЭ 9.1
Я абсолютно полностью согласен с высказыванием Гончаровой. Да, я тоже считаю, что язык в принципе формирует нашу картину мира, каждое слово, каждый звук или стилистический прием является маленьким элементом в общей картине мира русского языка и литературы. Также язык необходим для того, чтобы в полной мере раскрыть личность персонажа.
Для подтверждения своих слов обратимся к тексту А.И. Куприна. Герой произведения переживает, что мама полностью забыла о нем и что ему придется остаться единственным на ближайших выходных в гимназии. Страх, тревожность и волнение героя передаются через такие стилистические приемы, как “нет, нет, этого не может быть” и “мама знает и мама соскучилась”. Мы можем сделать вывод, что в данном приеме вся речь мальчика и его язык выражают смысл и раскрывают его как отдельно взятую личность, которая имеет целый комплекс чувств. Язык действительно является образом нашего внутреннего мира. Но не стоит забывать о том, как мы в целом воспринимаем интонацию человека, который говорит.
В романе “Дубровский” Пушкин решается употреблять огромное количество старых слов, которые уже не используются в современной речи. Однако нам все равно легко понять смысл всего текста, несмотря на то, что многие слова нам тяжело разобрать. Все это лишь еще раз доказывает, что Пушкин неотразимый мастер своего слова. Например, Пушкин с особой легкостью описывает Марью, всю ее легкость и красоту, делает это очень красиво. Кстати, также автор очень четко показывает нам хороших и плохих героев, хотя мы сходу не можем понять и постоянно ищем интригу в его произведении. Этим оно собственно и прекрасно.
Таким образом, язык действительно придают автору некий стиль, который он использует для описания образов своих героев. Даже сам Пушкин говорил, что писатель и поэт должен глаголом жечь сердца людей.
Примечание: при написании сочинения ОГЭ 9.1 оба аргумента берутся из предложенного текста. В данном сочинении аргумент из художественной литературы приведен в качестве примера для лучшего понимания и разбора предложенной темы.
Коллекция сочинений ОГЭ 9.1 здесь
Коллекция сочинений ОГЭ 9.3 здесь
Обновлено: 11.03.2023
Таким образом, роль воспоминаний в нашей жизни велика.
Готовое сочинение №2
В тексте русского писателя Ю.К. Олеши поднимается проблема места детских воспоминаний в жизни человека и их значения.
Авторскую позицию можно сформулировать следующим образом: детские воспоминания занимают важное место в жизни человека, поскольку с их помощью происходит осмысление жизни и окружающего мира.
С автором текста трудно не согласиться. Воспоминания о детских годах сопровождают человека на протяжении всей дальнейшей жизни, эти воспоминания помогают сравнить мировоззрение в юные годы и мировоззрение в зрелом возрасте, они учат ошибкам и помогают осмысливать важные категории жизни. Чтобы доказать эту точку зрения, можно обратиться к нескольким художественным произведениям отечественных писателей.
Подводя итоги, можно сказать, что детские воспоминания важны в жизни всех людей, так как благодаря им, помимо прочего, осмысляется жизнь и окружающий мир.
Готовое сочинение №3
У каждого из нас сохранились на всю жизнь воспоминания детства. Иногда это какие-то особенные события (например, поездка в другой город, поход в цирк или в театр), а иногда это просто какие-то картины, которые внезапно неизвестно откуда выныривают из нашей памяти, и они похожи на кадры давно забытого фильма. Однако все они очень важны для нас, очень ценны. Мне кажется, именно проблеме детских воспоминаний, их важности для человека посвящён текст Юрия Олеши.
Автор говорит о своих воспоминаниях, которые выныривают из памяти совершенно неожиданно. Например, он вспоминает самого себя в 11 лет гимназистом, как он стоит перед картой. И это воспоминание возникают у него не случайно, а потому, что автор знает: в детстве он мечтал совершить на велосипеде кругосветное путешествие. То есть не зря эта карта возникает в его сознании. Мысль о том, чтобы увидеть весь прекрасный мир, прочно засела в его голове еще тогда, в детстве. И именно эта мысль о красоте мира и всего удивительного, что есть в нём, не раз возникает в сознании писателя. В предложениях 18 — 19 писатель вспоминает о том, как он воспринимал самого себя: не как гимназиста, маленького мальчика, который что-то постигает, как-то воспитывается — он ощущал себя просто человеком. И это, мне кажется, тоже очень важно, потому что именно общечеловеческое стало таким ценным для писателя, когда он вырос и стал писать книги. Именно это восприятие самого себя как просто человека дало ему способность воспринимать и других просто как людей, а не как, например, врагов во время войны, о которой писатель говорит с такой горечью.
Автор, как мне кажется, считает, что в детстве закладывается нечто очень важное, что остаётся с человеком на всю жизнь: его восприятие самого себя и мира, в котором он живет.
Я согласен с писателем. Мне трудно судить о самом себе, потому что я ещё не так далеко ушел от своего детства, но я не раз читал книги, в которых говорилось об этом. Скажем, в трилогии Льва Толстого. И я думаю, что, действительно, многие вещи, которые человек постиг, ощутил, прочувствовал в детстве, когда ещё он не очень много понимал, но очень непосредственно чувствовал, становятся путеводными звездами на всю человеческую жизнь. И мне хотелось бы, чтобы самые счастливые мои воспоминания детства навсегда остались со мной и стали для меня утешением и радостью, если мне станет плохо или в жизни произойдет какая-то неудача.
Готовое сочинение №4
Какое значение в нашей жизни имеют воспоминания? Почему события, произошедшие в детстве, часто всплывают в нашем сознании? Именно эти вопросы возникают при чтении текста русского советского писателя Ю. К. Олеши.
Авторская позиция заключается в следующем: многие события, произошедшие в детстве, без всякого усилия с нашей стороны врезаются в память человека, помогают нам понять окружающий мир, обрести истинные жизненные ценности. Невозможно не согласиться с мнением автора. Действительно, именно в детстве, получая первые впечатления от окружающего мира, мы постигаем его, усваиваем нравственные уроки.
В заключение подчеркну, что детство – это прекрасная и важная пора в жизни человека, когда в нём закладываются нравственные основы. Воспоминания детства часто всплывают в нашей памяти и согревают душу.
Готовое сочинение №5
Что такое воспоминания и как они возникают? Над этими вопросами задумывается писатель Юрий Олеша. В тексте он поднимает проблему осмысления особенностей человеческой памяти.
По мнению автора, невозможно заставить себя вспомнить что-нибудь конкретное, картинки из прошлого появляются в нашем сознании сами собой. Так, рассказчик думает о времени обучения в гимназии и заостряет внимание не на событиях, а на чувствах и переживаниях. Герою интересно проследить за изменениями в собственном восприятии мира. Многие мечты не сбылись, но память сохранила ожидания маленького человека от ещё незнакомой жизни.
Итогом размышлений автора становится такая позиция: человеку не дано понять закономерность возникновения воспоминаний, так как они рождаются независимо от его воли.
Таким образом, воспоминания по природе своей свободны; сложно сказать, как именно они возникают, и в этом заключается их прелесть.
Готовое сочинение №6
Наши воспоминания живут своей жизнью, ведь очень часто мы пытаемся воскресить в памяти нужные образы и факты, но натыкаемся на глухую стену, хотя точно помним, что учили все это наизусть. А в другой раз на ум придет совершенно лишняя деталь, мы вспомним все до малейшей подробности о том, чего уже и не давно. Эта проблема человеческой памяти волнует многих исследователей и даже писателей. Так, Ю.К. Олеша посвятил ей несколько страниц.
Позиция автора ясна: он считает, что человек не может управлять памятью. Она не подчиняется нашей воле и работает по неизвестным нам закономерностям.
Таким образом, человеческая память представляет нам картины воспоминаний произвольно, хаотично и неполно. Мы не можем управлять этим процессом так, как нам хотелось бы. Но, возможно, скоро научные открытия позволят нам лучше узнать эту сферу и понять, как подчинить ее своей воле.
Готовое сочинение №7
Как работают воспоминания? Именно над этой проблемой рассуждает Юрий Карлович Олеша в предложенном для анализа тексте.
Эти примеры, дополняя друг друга, помогают понять как же на самом деле работают воспоминания.
Авторскую позицию, как мне кажется, можно выразить так: воспоминание – это невероятное явление, которое может проявляться совсем непредвиденно. Человек со временем забывает многие события его жизни, но все они остаются в его сознании. И иногда внезапно могут появиться.
Я полностью согласна с позицией автора. Сознание человека может хранить в себе миллионы воспоминаний, которые сам человек может позабыть. Многие радостные и важные моменты нашей жизни с годами стираются у нас из памяти. Но какую радость может испытать человек от внезапно появившегося воспоминания из детства. С какой теплотой мы вспоминаем время, проведенное вместе с семьей или друзьями. Воспоминания возникают неожиданно, будто сюрпризы, которые память преподносит человеку. Я считаю это логичным, ведь было бы неинтересно помнить все на свете.
Готовое сочинение №8
Какое значение в жизни человека имеют детские воспоминания? Над этим вопросом предлагает задуматься автор текста Юрий Олеша, русский советский писатель и поэт.
Все мысли, эмоции и чувства, испытанные в детстве, повлияли на то, кем мы в дальнейшем стали, и вспоминать о том, кем мы были, полезно для анализа своей жизни и себя как человека.
Авторская позиция выражена в том, что события детства, закрепившиеся в нашей памяти и периодически сами по себе появляющиеся в виде воспоминаний, помогают понять окружающий мир и себя, свои мечты — ведь когда, как не в детстве, мы легче всего понимаем свои желания?
Я согласна с позицией автора. Воспоминания детского возраста невероятно ценны и приятны, и благодаря им мы постигаем мир, получаем опыт.
Таким образом, роль детских воспоминаний в жизни человека велика. Будучи детьми, мы только учимся жить, познавать этот мир, понимать себя и окружающих. Воспоминания об этих временах часто появляются в сознании даже во снах, согревая душу и помогая нам в жизни.
Сам текст из 7 варианта по которому писались сочинения начинается так:
Сочинения по русскому . Образцы сочинений. Сочинения ЕГЭ, ОГЭ
Сочинение по тексту. Ивана Федоровича Гончарова. Сочинение для ЕГЭ
Проблема: Роль матери в жизни человека
Текст Ивана Федоровича Гончарова
Трудно. По традиции, надо бы начать с родственников. Но степень близости, духовного родства может быть большей, например, с другом. Допустим, поломав голову, вы все же справитесь с задачей и составите список.
Мать создает новые жизни и тем самым передает эстафету рода человеческого, выступает связующим звеном между поколениями. Она, можно сказать, источник возобновляемых сил природы.
Сочинение:
Российский педагог и публицист Иван Федорович Гончаров в своем тексте главной проблемой ставит роль матери в жизни человека.
Она, бесспорно, является актуальной, ведь для любого человека мать всегда была, есть и будет самым близким, родным и дорогим человеком. И.Ф.Гончаров, говоря о матерях, отзывается о них очень тепло. В своем тексте он часто использует слова «Мать» и «мама», усиливая тем самым наши эмоции во время чтения и наши чувства по отношению к человеку, всегда стоящему на первом плане, всегда любимому и родному — к маме. Она, действительно, «вне ряда, место ее в нашей жизни совершенно особое, исключительное».
Писатель убежден, что «Материнство — это жизнетворчество, это миссия, от рождения данная женщине», и он ставит мать превыше всего, не смешивая её с остальными людьми и отдавая ей особое, почетное место в нашей в жизни.
Позиция автора по этому вопросу показывает его отношение ко всем матерям мира: он считает их «идеалом», испытывает к ним уважение и видит в них гармонию природы и общества.
Я, конечно, согласна с автором. Мама, бесспорно, всегда являлась самой любимой, красивой, милой и ласковой женщиной для любого человека, и каждый относится к ней с огромным уважением и почетом, с неисчерпаемым чувством благодарности и любви за данную ею жизнь и за все, что в этой жизни есть.
Подтверждение этой мысли я вижу в стихотворении А.Павлова-Бессоновского «Спасибо, мамочка», которое автор начинает со слов благодарности маме, за все: за жизнь, за тепло, за уют, за понимание, поддержку и вечную любовь. Свое произведение поэт полностью посвящает матерям и в каждом слове хочет сказать искреннее «спасибо» за то, что было и за то, что есть.
Материнство также можно рассматривать как подвиг. Ведь матери готовы отдать без остатка все за жизнь и здоровье своих детей, за их счастье и покой. Так, например, Л.Улицкая в своём произведении «Дочь Бухары» рассказывает нам о смелой и отважной женщине, главной героине рассказа — Бухаре. Это женщина, совершившая материнский подвиг. У ее дочери Милы был синдром Дауна. Но Бухара, даже будучи смертельно больной, старалась всячески помочь дочери: устроила на работу, нашла ей новую семью, мужа, и только после этого позволила себе уйти из жизни.
Неслучайно И.Ф.Гончаров рассуждает на этой проблемой. Мать — самый главный человек в жизни каждого. Материнскую заботу не заменить ничем. Она учит, воспитывает в нас доброту, желание помочь, умение ценить жизнь.
Как-то Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно, он прав.
Как и всякое живое дело, военная проза в своём развитии не может избежать определённых спадов.
(1)Как-то Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. (2)Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно, он прав.
(З)Как и всякое живое дело, военная проза в своём развитии не может избежать определённых спадов. (4)Но вряд ли когда-либо померкнут в её сокровищнице замечательные по мастерству и правдивости произведения, принадлежащие перу Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Симонова, Владимира Богомолова, Константина Воробьёва, Юрия Гончарова, Евгения Носова, Сергея Крутилина и других. (б)Написанные, казалось бы, об одном и том же, о человеке на войне, эти произведения несут в себе неиссякаемое разнообразие g£b жанровое, тематическое, стилевое, различие личностно-авторского отношения к войне и её непростым проблемам. (6)Но, разумеется, самое ценное в них — правда пережитого, достоверность подробностей и психологии, неизменность гуманистического отношения к человеку самой трудной судьбы солдату на самой большой и самой кровавой войне.
(7)О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны, разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости. t8) Что до меня как читателя (да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и невоевавпшх), то, может быть, для нас дороже всего в этих книгах не мастерство изложения, не красочность слога, но — правда. (9)3а тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых сказок и прямой лжи. (Ю)Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам её жертв, так и по отношению к будущему. (11)Люди Земли должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой досталось им это избавление. (12 (Что касается читателя, то ему интересно знать всё: от переживаний солдата в передовом окопе до работы крупных штабов и ставки по руководству войсками. (13>Литература многое сделала для раскрытия психологии рядового бойца и младшего офицера переднего края, но по причине отсутствия прежде всего личного опыта у её авторов она оказалась некомпетентной во всём, что касается крупных штабов, объединений, ставки.
(14) Эгот пробел в значительной мере восполняют военные мемуары, принадлежащие перу генералов, крупных военачальников, у которых немало честных и хороших книг.
(16) В самом деле, часто трудно добраться до сути через аккуратный штакетник1 округлых стереотипных фраз или задним числом сочинённых подробностей, заимствованных из фронтовой печати тривиальных примеров и бесконечных страниц разговоров.
(17>Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что лежит за пределами их жизненного или военного опыта. (18)Но когда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, всё те же разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчётах бывшего наркома обороны, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке и спрашиваю себя: откуда всё это? (19)Из каких документов, по чьим свидетельствам? (20)Ах, это авторский домысел, стало быть, сочинённость, выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно.
(32)Виктор Астафьев прав: память человеческая избирательна и любит приятное. (33)К старости всё трудное видится в ином свете, нежели в том, что освещал муки, кровь и страдания в годы военной молодости. (34)3адним числом кому не хочется видеть себя героем? (35)Это понятно и извинительно для всякого стареющего человека, но не для литературы. (36)Литература не имеет права на старость и должна всё помнить в подробностях, в первозданности, не упускать ничего.
(По В. В. Быкову)[i][/i]
Любое художественное произведение предполагает соотношение правдоподобия и вымысла. Но если писатель создаёт историческое произведение, посвящённое теме войны, он должен быть очень ответственным и объективным. Бессмысленно описывать войну с парадной стороны, потому что на самом деле это очень страшное явление, жертвами которого становятся ни в чём не повинные люди. В.В. Быков поднимает в тексте проблему правдивого отражения войны в литературных произведениях.
Оба аргумента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Они доказывают мысль автора о том, что писатели должны подходить к изображению военных событий с огромной ответственностью, не позволяя себе что-либо приукрашивать.
Итогом размышлений В.В. Быкова становится такая позиция: в литературных произведениях о войне нужно говорить только правду, избегая домыслов и лжи.
В заключение хочется сказать, что ценность художественных текстов о войне заключается в способности передавать истину. Именно поэтому выдающиеся произведения на эту тему должны быть примером высокого документализма.
Сочинение-рассуждение Быстротечности времени; мгновение. по тексту бондарева
Время – это мгновение. Людям всегда кажется, что время – это бесконечный, нескончаемый ресурс, что нет ему предела и конца. К сожалению, это не так. Время – это промежуток, движущийся с большой скоростью. Отвлекшись лишь раз, не заметишь, как пройдет день, месяц, год. А потом и вовсе настает его нехватка, и ты понимаешь, что то, что ты думал бесконечно – лишь миг.
Все в этом мире подчиняется данному правилу, также и человеческая жизнь. Она не вечна. У всего есть начало и конец. Именно об этом рассуждает Юрий Васильевич Бондарев — русский советский писатель, в своем тексте, поднимая проблему быстротечности времени.
Чтобы доказать данную проблему автор приводит два примера. Во-первых, это звезда северного полушария размером с Солнце, которая в 1976 году взорвалась, выплеснув огромное количество энергии в пространство. Вроде бы, что такое звезда? В моем понимании, это объект, находящийся во Вселенной, в чем-то бесконечном, следовательно, и звезда для меня – что-то вечное, но, несмотря на это, она взорвалась. Поступаете в 2021 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.
Время ее существования было ограничено, являлось лишь мимолетным мигом. Ничто не бесконечно, быстротечно. Во-вторых, человеческая жизнь. Автор пишет, что нам отведено 70 лет (по Библии), кажется так много, почти целый век, но в то же время это так мало, ведь живем мы осознано лишь 50 лет, и не всегда за столь короткое время мы успеваем прожить полные, насыщенные различными эмоциями дни, найти ответы на различные вопросы, ведь попросту время – мгновение, которое не останавливается, несмотря на желания человека.
Полезный материал по теме:
Время – категория важная для человека. Оно неостановимо движется, сокращая наше пребывание на земле. Кажется, впереди ещё много времени, но человек не может предугадать, что ждёт его завтра. Высокомерно о времени рассуждает смертный и самоуверенный Берлиоз. В разговоре с Воландом он декларирует свои планы на вечер, над чем смеётся дьявол, отрицая возможность осуществления этих планов. И лишь оставшийся в живых Иван Николаевич Понырёв (Бездомный) осознаёт всю правоту утверждений Воланда. Всё происходящее в сквере на Патриарших прудах почти мгновенно, но какую роль эти события сыграли в жизни каждого.
Читаемое в разделе:
- Проблема взаимоотношения отцов и детей. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема роли человеческой памяти. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема влияния природы на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема влияния учителя на воспитание ученика. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема воздействия музыки на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема выбора профессии. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема преодоления жизненных трудностей в годы войны. Аргументы к сочинению ЕГЭ
Ранее опубликованные в разделе:
- Проблема природы гениальности. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема стойкости человека в жизни. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема ответственности учёного за научное открытие. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема воздействия музыки на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема взаимосвязей русского языка. Аргументы к сочинению ЕГЭ
- Проблема совести. Аргументы к сочинению ЕГЭ
Новые материалы раздела:
Литературный портал “Шпаргалкино” Сочинения, рефераты, шпаргалки
Философские мотивы лирики С.А. Есенина
В творчестве Есенина трудно отделить собственно философскую лирику от лирики пейзажной, любовной, посвященной России. Философские мотивы переплетаются в его поэзии с мотивами любви к женщине, родной земле, с темой любования природой, ее красотой и гармонией. Все это составляет единый мир, единый космос, в котором существует человек — а ведь именно взаимоотношения человека и Вселенной составляют предмет философских раздумий. Философия Есенина рождается не из отвлеченных размышлений — она является, скорее, результатом прозрения, прочувствования, острого ощущения краткости человеческого существования в мире и неразрывной связи мира и человека. В ранней лирике Есенина человек и мир гармонично связаны, между ними нет противоречия, конфликта. Есенинский космос — это природа и родина, тот мир, с которым человек связан с колыбели. В природе все одушевлено и взаимосвязано, все переходит во все. Это основной принцип богатейшей образности, которая отличает поэзию Есенина. Образный мир его лирики построен на олицетворениях и метафорах, то есть на уподоблениях друг другу разнородных на первый взгляд явлений и предметов: органического и неорганического, растительного, животного, космического и человеческого. Это видно уже на примере стихотворения, которое принято считать первым поэтическим опытом Есенина:
Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет.
Я — пастух; мои хоромы – В мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы На кивливом языке. Духовитые дубровы Кличут ветками в реке.
Языком вылижу на иконах я Лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, Где живет божество живых!
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник: Пройдет, зайдет и вновь оставит дом…
Будь же ты навек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.
Это напоминает знаменитые пушкинские строки:
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою чуждою сиять.
Однако есенинская природа, есенинский космос далеко не так равнодушны к бренному человеку. Они гораздо теплее, человечнее, возможно, благодаря тому, что природа Есенина — не абстрактная, а предельно конкретная, имеющая свое географическое и национальное определение. Она и помнит и по-человечески грустит о краткости жизни:
О всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом.
И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверей, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове.
О скоротечности жизни
Что бы я сказал моему сыну если бы он меня спросил.
Философские мотивы в лирике Есенина
В России была переломная эпоха, и поэту с его тонкой и чувствительной душой непросто было найти свое место в этом мире. Ощущение того, что он является странником на этой Земле, что все подчинено законам природы, нашло отражение в философских произведениях Есенина. Философские мотивы в его стихах тесно переплетаются с темой любви к женщине, родным местам, русской природе. Размышления поэта рождаются не из вымышленных образов, в отличие от символистов, а на неразрывной связи Вселенной и человека.
Поэт ищет выход своим чувствам и переживаниям, его тревожит быстротечность человеческой жизни. Лирика Есенина этого сурового времени — это своеобразная исповедь перед собой, поиск новых путей развития родины. Именно в этот период он все чаще обращается к фольклорным образам и лирике народных песен.
Целый цикл посвящается сестре Шуре:
Песни родного дома противопоставляются вою бродячего пса и разгулявшейся метели. Упоминая известные народные песни и перефразируя в них строки, поэт выражает свое тягостное настроение, задумывается о собственной судьбе.
Краткий анализ
Тема стихотворения – быстротечность человеческой жизни, воспоминания о молодости.
Композиция – Произведение по смыслу делится на 2 части: воспоминания лирического героя о молодости, раздумья над вечным вопросом жизни и смерти. Формально стихотворение состоит из пяти катренов, каждый из которых продолжает предыдущий по смыслу.
Жанр – элегия.
Стихотворный размер – пятистопный хорей, рифмовка перекрестная АВАВ.
Средства выразительности
История создания
Анализируемое стихотворение С. Есенин написал в 1921 г., когда ему было 26 лет. Казалось бы, ещё рано думать о том, что молодость прошла, а смерть неумолимо близится. Однако начало ХХ века обозначилось войной. Поэт не был участником военных событий, но входил в Царскосельский военно-санитарный поезд. Там он узнал, что жизнь граничит со смертью. К моменту написания стихотворения Сергей Александрович уже успел издать несколько сборников. В том же 1921 г. он встретил женщину, с которой создал семью. Эти факты объясняют, почему поэт считал себя зрелым человеком.
СПАДИЛО.РУ
Джон Уильям Годвард. Юность и время.
Вступление
В условиях постоянно растущего ритма жизни вопрос рационального использования времени становится первостепенным. Многое нужно успеть, многому научиться, а для этого необходимо правильно организовать распорядок жизни. Особенно это важно для молодого, подрастающего поколения, которому кажется, что еще вся жизнь впереди.
Проблема
Комментарий
Авторская позиция
М. Шагинян пытается донести до читателя мысль о том, что привычку к труду, к преодолению жизненных неурядиц нужно воспитывать в себе с ранней юности и закреплять постоянной практикой. По ее мнению, нельзя отказываться от выполнения поставленных задач в надежде решить все в самый последний момент. Такое отношение к жизни породит лишь неспособность преодоления трудностей, а значит, неумение жить в принципе.
Своя позиция
Разве можно не согласиться с автором? Я не представляю, как сможет быть успешным в жизни тот, кто не научился решать проблемы, не умеет контролировать свои слабости и желания, тратит недели и месяцы на развлечения вместо осознанного движения к своей цели. Ведь потом времени может просто не быть.
Аргумент №1
Аргумент №2
Заключение
С каждым новым рывком цивилизации время начинает течь быстрее, требуя от людей максимальной концентрации, чтобы правильно обустроить жизнь, спланировать быт. Мы должны быть сосредоточены на поставленных целях и начинать заниматься ими уже сейчас, учась в школе, а не когда-нибудь потом. Тогда в будущем станем обладателями ряда навыков и умений для преодоления любого непредвиденного обстоятельства.
Быстротечность человеческого бытия в творчестве Есенина
Жизнь Сергея Есенина была непланомерной, неоднозначной. В рамках биографий ее можно считать даже одной из самых трагичных, быстротечных, наполненных огромным количеством постоянных переездов и перемен. Естественно, что это отразилось и в творчестве поэта, который известен любовью к родине, лирическими отступлениями о родных просторах.
Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Напишем в течение дня!
Связаться с нами:
Последние произведения под авторством Сергея Есенина и вовсе будут трагичными, ведь непризнание народа поэт видит как безответную любовь Родины, которую он всегда боготворил. Эту часть жизни в работах читатель видит также по-философски, в поэзии появляется много философских строк, меняется воспринимается иначе понятия счастье и жизнь.
Поэт относит себя к числу деревенских творческих личностей, которые остались в России. Однако общество его воспринимает плохо, не желая ставить на один уровень с остальными именитыми поэтами страны. После этого в творчестве Есенина просматривается больше трагических строк и разочарований, перераспределяя приоритеты.
Читайте также:
- Паустовский телеграмма сочинение на тему равнодушие
- Сочинение карт таро королева жезлов
- Совесть и стыд сочинение
- Сочинение про поездку с классом в другой город
- Сочинение про войну 7 класс на белорусском языке
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Ликейские острова… (2)Да, это гармония среди бесконечных вод Тихого океана.
(3)Настоящая сказка: дерево к дереву, листок к листку, не смешаны в неумышленном хаосе, как обыкновенно делает природа. (4)Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.
(5)Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. (6)Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окружённые каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. (7)Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. (8)В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. (9)Ещё издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. (10)Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. (11)3а них боязливо прятались дети.
(12)Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не тёплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых. (13)Дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. (14)Это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. (15)3десь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. (16)Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. (17)3десь, быть может, ещё возможен золотой век.
(18)Лес как сад, как парк царя или вельможи. (19)Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берёт обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя её величия. (20)Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трёх стенках из тонкого дерева, заплетённого бамбуком; четвёртой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стёкол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. (21)Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьём, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… (22) «Кто учил этих детей природы строить? — невольно спросишь себя». (23)3десь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.
(24)Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. (25)Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели.
(26)Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. (27)Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. (28)Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. (29)В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. (30)Книг, пороху и другого подобного разврата нет. (31)Посмотрим, что будет дальше. (32)Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?
(33)Тронет, и уж тронула. (34)Американцы, или люди Соединённых Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под своё покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. (35)Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединённых Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.
(По И.А. Гончарову)
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».
Текст ЕГЭ. И.А. Гончаров. О взаимоотношениях человека и природы. Примерный круг проблем.
(1)Ликейские острова… (2)Да, это гармония среди бесконечных вод Тихого океана.
(3)Настоящая сказка: дерево к дереву, листок к листку, не смешаны в неумышленном хаосе, как обыкновенно делает природа. (4)Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.
(5)Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. (6)Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окружённые каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. (7)Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. (8)В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. (9)Ещё издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. (10)Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. (11)3а них боязливо прятались дети.
(12)Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не тёплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых. (13)Дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. (14)Это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. (15)3десь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. (16)Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. (17)3десь, быть может, ещё возможен золотой век.
(18)Лес как сад, как парк царя или вельможи. (19)Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берёт обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя её величия. (20)Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трёх стенках из тонкого дерева, заплетённого бамбуком; четвёртой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стёкол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. (21)Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьём, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… (22) «Кто учил этих детей природы строить? — невольно спросишь себя». (23)3десь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.
(24)Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. (25)Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели.
(26)Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. (27)Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. (28)Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. (29)В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. (30)Книг, пороху и другого подобного разврата нет. (31)Посмотрим, что будет дальше. (32)Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?
(33)Тронет, и уж тронула. (34)Американцы, или люди Соединённых Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под своё покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. (35)Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединённых Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.
(По И.А. Гончарову)
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».
Примерный круг проблем:
1. Как должны выстраиваться взаимоотношения человека и природы?
2. Способна ли цивилизация проникнуть в мир первозданной природы?
- Подготовка к сочинению ЕГЭ
- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
(1812-1891)
Ю.В.Лебедев
О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова.
По складу своего характера Иван Александрович Гончаров далеко не похож на людей, которых рождали энергичные и деятельные 60-е годы XIX века. В его биографии много необычного для этой эпохи, в условиях 60-х годов она — сплошной парадокс. Гончарова как будто не коснулась борьба партий, не затронули различные течения бурной общественной жизни. Он родился 6(18) июня 1812 года в Симбирске, в купеческой семье. Закончив Московское коммерческое училище, а затем словесное отделение философского факультета Московского университета, он вскоре определился на чиновничью службу в Петербурге и служил честно и беспристрастно фактически всю свою жизнь. Человек медлительный и флегматичный, Гончаров и литературную известность обрел не скоро. Первый его роман «Обыкновенная история» увидел свет, когда автору было уже 35 лет. У Гончарова-художника был необычный для того времени дар — спокойствие и уравновешенность. Это отличает его от писателей середины и второй половины XIX века, одержимых духовными порывами, захваченных общественными страстями. Достоевский увлечен человеческими страданиями и поиском мировой гармонии, Толстой — жаждой истины и созданием нового вероучения, Тургенев опьянен прекрасными мгновениями быстротекущей жизни. Напряженность, сосредоточенность, импульсивность — типичные свойства писательских дарований второй половины XIX века. А у Гончарова на первом плане — трезвость, уравновешенность, простота.
Лишь один раз Гончаров удивил современников. В 1852 году по Петербургу разнесся слух, что этот человек де-Лень — ироническое прозвище, данное ему приятелями,- собрался в кругосветное плавание. Никто не поверил, но вскоре слух подтвердился. Гончаров действительно стал участником кругосветного путешествия на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции вице-адмирала Е. В. Путятина. Но и во время путешествия он сохранял привычки домоседа.
В Индийском океане, близ мыса Доброй Надежды, фрегат попал в шторм: «Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой — нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи, но не удалось…
Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.
— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.
— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье».
«Да и зачем оно, это дикое грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод… Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны и страшны… они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь…»
Гончарову дорога милая его сердцу равнина, благословленная им на вечную жизнь Обломовка. «Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод».
В гончаровском недоверии к бурным переменам и стремительным порывам заявляла о себе определенная писательская позиция. Не без основательного подозрения относился Гончаров к начавшейся в 50-60-е годы ломке всех старых устоев патриархальной России. В столкновении патриархального уклада с нарождающимся буржуазным Гончаров усматривал не только исторический прогресс, но и утрату многих вечных ценностей. Острое чувство нравственных потерь, подстерегавших человечество на путях «машинной» цивилизации, заставляло его с любовью вглядываться в то прошлое, что Россия теряла. Многое в этом прошлом Гончаров не принимал: косность и застой, страх перемен, вялость и бездействие. Но одновременно старая Россия привлекала его теплотой и сердечностью отношений между людьми, уважением к национальным традициям, гармонией ума и сердца, чувства и воли, духовным союзом человека с природой. Неужели все это обречено на слом? И нельзя ли найти более гармоничный путь прогресса, свободный от эгоизма и самодовольства, от рационализма и расчетливости? Как сделать, чтобы новое в своем развитии не отрицало старое с порога, а органически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в себе? Эти вопросы волновали Гончарова на протяжении всей жизни и определяли существо его художественного таланта.
Художника должны интересовать в жизни устойчивые формы, не подверженные веяниям капризных общественных ветров. Дело истинного писателя — создание устойчивых типов, которые слагаются «из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц». Эти наслоения «учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю».
Не в этом ли секрет загадочной, на первый взгляд, медлительности Гончарова-художника? За всю свою жизнь он написал всего лишь три романа, в которых развивал и углублял один и тот же конфликт между двумя укладами русской жизни, патриархальным и буржуазным, между героями, выращенными двумя этими укладами. Причем работа над каждым из романов занимала у Гончарова не менее десяти лет. «Обыкновенную историю» он опубликовал в 1847 году, роман «Обломов» в 1859, а «Обрыв» в 1869 году.
Верный своему идеалу, он вынужден долго и пристально всматриваться в жизнь, в ее текущие, быстро меняющиеся формы; вынужден исписать горы бумаги, заготовить массу черновиков, прежде чем в переменчивом потоке русской жизни ему не откроется нечто устойчивое, знакомое и повторяющееся. «Творчество,- утверждал Гончаров,- может являться только тогда, когда жизнь установится; с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит», потому что едва народившиеся явления туманны и неустойчивы. «Они еще не типы, а молодые месяцы, из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним как к определенным и ясным, следовательно, и доступным творчеству образам».
Уже Белинский в отклике на роман «Обыкновенная история» отметил, что в таланте Гончарова главную роль играет «изящность и тонкость кисти», «верность рисунка», преобладание художественного изображения над прямой авторской мыслью и приговором. Но классическую характеристику особенностям таланта Гончарова дал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Он подметил три характерных признака писательской манеры Гончарова.
Есть писатели, которые сами берут на себя труд объяснения с читателем и на протяжении всего рассказа поучают и направляют его. Гончаров, напротив, доверяет читателю и не дает от себя никаких готовых выводов: он изображает жизнь такою, какой ее видит как художник, и не пускается в отвлеченную философию и нравоучения.
Вторая особенность Гончарова заключается в умении создавать полный образ предмета. Писатель не увлекается какой-либо одной стороной его, забывая об остальных. Он «вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления».
Наконец, своеобразие Гончарова-писателя Добролюбов видит в спокойном, неторопливом повествовании, стремящемся к максимально возможной объективности, к полноте непосредственного изображения жизни.
Эти три особенности в совокупности позволяют Добролюбову назвать талант Гончарова объективным талантом.
Роман «Обыкновенная история».
Первый роман Гончарова «Обыкновенная история» увидел свет на страницах журнала «Современник» в мартовском и апрельском номерах за 1847 год. В центре романа столкновение двух характеров, двух философий жизни, выпестованных на почве двух общественных укладов: патриархального, деревенского (Александр Адуев) и буржуазно-делового, столичного (его дядюшка Петр Адуев). Александр Адуев — юноша, только что закончивший университет, исполненный возвышенных надежд на вечную любовь, на поэтические успехи (как большинство юношей, он пишет стихи), на славу выдающегося общественного деятеля. Эти надежды зовут его из патриархальной усадьбы Грачи в Петербург. Покидая деревню, он клянется в вечной верности соседской девушке Софье, обещает дружбу до гробовой доски университетскому приятелю Поспелову.
Романтическая мечтательность Александра Адуева сродни герою романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Владимиру Ленскому. Но романтизм Александра, в отличие от Ленского, вывезен не из Германии, а выращен здесь, в России. Этот романтизм питает многое. Во-первых, далекая от жизни университетская московская наука. Во-вторых, юность с ее широкими, зовущими вдаль горизонтами, с ее душевным нетерпением и максимализмом. Наконец, эта мечтательность связана с русской провинцией, со старорусским патриархальным укладом. В Александре многое идет от наивной доверчивости, свойственной провинциалу. Он готов видеть друга в каждом встречном, он привык встречать глаза людей, излучающие человеческое тепло и участие. Эти мечты наивного провинциала подвергаются суровому испытанию столичной, петербургской жизнью.
«Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна… С кем ни встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет… А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою… Он посмотрел на домы — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою».
Провинциал верит в добрые родственные чувства. Он думает, что и столичные родственники примут его с распростертыми объятиями, как принято в деревенском усадебном быту. Не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить. А он «расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы: все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню».
Но и тут молодого романтика-провинциала ждет урок. «Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают… Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно».
Именно так встречает восторженного Александра деловой петербургский дядюшка Петр Адуев. На первый взгляд он выгодно отличается от племянника отсутствием неумеренной восторженности, умением трезво и деловито смотреть на вещи. Но постепенно читатель начинает замечать в этой трезвости сухость и расчетливость, деловой эгоизм бескрылого человека. С каким-то неприятным, демоническим удовольствием Петр Адуев «отрезвляет» молодого человека. Он безжалостен к юной душе, к ее прекрасным порывам. Стихи Александра он употребляет на оклейку стен в кабинете, подаренный любимой Софьей талисман с локоном ее волос — «вещественный знак невещественных отношений» — ловко швыряет в форточку, вместо стихов предлагает перевод агрономических статей о навозе, вместо серьезной государственной деятельности определяет племянника чиновником, занятым перепискою деловых бумаг. Под влиянием дядюшки, под воздействием отрезвляющих впечатлений делового, чиновничьего Петербурга разрушаются романтические иллюзии Александра. Гибнут надежды на вечную любовь. Если в романе с Наденькой герой еще романтический влюбленный, то в истории с Юлией он уже скучающий любовник, а с Лизой — просто соблазнитель. Увядают идеалы вечной дружбы. Разбиваются вдребезги мечты о славе поэта и государственного деятеля: «Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем все стоял и смотрел. „Точно завод моего дяди! — решил он наконец.- Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три,- смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу — мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг… И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей,- одни колеса да пружины…“
Белинский в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, высоко оценивая художественные достоинства Гончарова, увидел главный пафос романа в развенчании прекраснодушного романтика. Однако смысл конфликта племянника и дядюшки более глубок. Источник несчастий Александра не только в его отвлеченной, летящей поверх прозы жизни мечтательности. В разочарованиях героя не в меньшей, если не в большей степени повинен трезвый, бездушный практицизм столичной жизни, с которой сталкивается молодой и пылкий юноша. В романтизме Александра, наряду с книжными иллюзиями и провинциальной ограниченностью, есть и другая сторона: романтична любая юность. Его максимализм, его вера в безграничные возможности человека — еще и признак молодости, неизменный во все эпохи и все времена.
Петра Адуева не упрекнешь в мечтательности, в отрыве от жизни, но и его характер подвергается в романе не менее строгому суду. Этот суд произносится устами жены Петра Адуева Елизаветы Александровны. Она говорит о „неизменной дружбе“, „вечной любви“, „искренних излияниях“ — о тех ценностях, которых лишен Петр и о которых любил рассуждать Александр. Но теперь эти слова звучат далеко не иронически. Вина и беда дядюшки в его пренебрежении к тому, что является в жизни главным,- к духовным порывам, к цельным и гармоническим отношениям между людьми. А беда Александра оказывается не в том, что он верил в истину высоких целей жизни, а в том, что эту веру растерял.
В эпилоге романа герои меняются местами. Петр Адуев осознает ущербность своей жизни в тот момент, когда Александр, отбросив все романтические побуждения, становится на деловую и бескрылую дядюшкину стезю.
Где же истина? Вероятно, посередине: наивна оторванная от жизни мечтательность, но страшен и деловой, расчетливый прагматизм. Буржуазная проза лишается поэзии, в ней нет места высоким духовным порывам, нет места таким ценностям жизни, как любовь, дружба, преданность, вера в высшие нравственные побуждения. Между тем в истинной прозе жизни, как ее понимает Гончаров, таятся зерна высокой поэзии.
У Александра Адуева есть в романе спутник, слуга Евсей. Что дано одному — не дано другому. Александр прекраснодушно духовен, Евсей прозаически прост. Но их связь в романе не ограничивается контрастом высокой поэзии и презренной прозы. Она выявляет еще и другое: комизм оторвавшейся от жизни высокой поэзии и скрытую поэтичность повседневной прозы. Уже в начале романа, когда Александр перед отъездом в Петербург клянется в „вечной любви“ Софье, его слуга Евсей прощается с возлюбленной, ключницей Аграфеной. „Кто-то сядет на мое место?“ — промолвил он, все со вздохом. „Леший!“ — отрывисто от4)вечала она. „Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?“ — »Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда?» — со злостью заметила она. Евсей встал… «Матушка, Аграфена Ивановна!.. будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так… эх!..»
Проходит много лет. Полысевший и разочарованный Александр, растерявший в Петербурге романтические надежды, вместе со слугою Евсеем возвращается в усадьбу Грачи. «Евсей, подпоясанный ремнем, весь в пыли, здоровался с дворней; она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на нее молча, с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, исподлобья, но тотчас же невольно изменила себе: засмеялась от радости, потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. „Что молчишь? — сказала она,- экой болван: и не здоровается!“
Устойчивая, неизменная привязанность существует у слуги Евсея и ключницы Аграфены. „Вечная любовь“ в грубоватом, народном варианте уже налицо. Здесь дается органический синтез поэзии и жизненной прозы, утраченный миром господ, в котором проза и поэзия разошлись и стали друг к другу во враждебные отношения. Именно народная тема романа несет в себе обещание возможности их синтеза в будущем.
Цикл очерков „Фрегат “Паллада».
Итогом кругосветного плавания Гончарова явилась книга очерков «Фрегат „Паллада“, в которой столкновение буржуазного и патриархального мироуклада получило дальнейшее, углубляющееся осмысление. Путь писателя лежал через Англию к многочисленным ее колониям в Тихом океане. От зрелой, промышленно развитой современной цивилизации — к наивно-восторженной патриархальной молодости человечества с ее верой в чудеса, с ее надеждами и сказочными грезами. В книге очерков Гончарова получила документальное подтверждение мысль русского поэта Е. А. Боратынского, художественно воплощенная в стихотворении 1835 года „Последний поэт“:
Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Возраст зрелости современной буржуазной Англии — это возраст деловитости и умного практицизма, хозяйственного освоения вещества земли. Любовное отношение к природе сменилось беспощадным покорением ее, торжеством фабрик, заводов, машин, дыма и пара. Все чудесное и таинственное вытеснилось приятным и полезным. Весь день англичанина расчислен и расписан: ни одной свободной минутки, ни одного лишнего движения — польза, выгода и экономия во всем.
Жизнь настолько запрограммирована, что действует, как машина. „Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин“.
Даже непроизвольный сердечный порыв — жалости, великодушия, симпатии — англичане стараются регулировать и контролировать. „Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести“.
Когда Гончаров охотно расстается с Англией — »этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти», в его воображении, по контрасту с механической жизнью англичанина, встает образ русского помещика. Он видит, как далеко в России, «в просторной комнате на трех перинах» спит человек, с головою укрывшийся от назойливых мух. Его не раз будила посланная от барыни Парашка, слуга в сапогах с гвоздями трижды входил и выходил, потрясая половицы. Солнце обжигало ему сначала темя, а потом висок. Наконец, под окнами раздался не звон механического будильника, а громкий голос деревенского петуха — и барин проснулся. Начались поиски слуги Егорки: куда-то исчез сапог и панталоны запропастились. Оказалось, что Егорка на рыбалке — послали за ним. Егорка вернулся с целой корзиной карасей, двумя сотнями раков и с дудочкой из камыша для барчонка. Нашелся сапог в углу, а панталоны висели на дровах, где их оставил впопыхах Егорка, призванный товарищами на рыбную ловлю. Барин не спеша напился чаю, позавтракал и стал изучать календарь, чтобы выяснить, какого святого нынче праздник, нет ли именинников среди соседей, коих надо поздравить. Несуетная, неспешная, совершенно свободная, ничем, кроме личных желаний, не регламентированная жизнь! Так появляется параллель между чужим и своим, и Гончаров замечает: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» Гораздо больше говорят сердцу русского писателя нравы Востока. Он воспринимает Азию как на тысячу миль распростертую Обломовку. Особенно поражают его воображение Ликейские острова: это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Здесь живут добродетельные люди, питающиеся одними овощами, живут патриархально, «толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов… Что это? где мы? Среди древних пастушеских народов, в золотом веке?» Это уцелевший клочок древнего мира, как изображали его Библия и Гомер. И люди здесь красивы, полны достоинства и благородства, с развитыми понятиями о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Они живут, как жили и две тысячи лет назад,- без перемены: просто, несложно, первобытно. И хотя такая идиллия человеку цивилизации не может не наскучить, почему-то в сердце после общения с нею появляется тоска. Пробуждается мечта о земле обетованной, зарождается укор современной цивилизации: кажется, что люди могут жить иначе, свято и безгрешно. В ту ли сторону пошел современный европейский и американский мир с его техническим прогрессом? Приведет ли человечество к блаженству упорное насилие, которое оно творит над природой и душой человека? А что если прогресс возможен на иных, более гуманных основах, не в борьбе, а в родстве и союзе с природой?
Далеко не наивны вопросы Гончарова, острота их нарастает тем более, чем драматичнее оказываются последствия разрушительного воздействия европейской цивилизации на патриархальный мир. Вторжение в Шанхай англичан Гончаров определяет как «нашествие рыжих варваров». Их бесстыдство «доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!». Культ наживы, расчета, корысти ради сытости, удобства и комфорта… Разве не унижает человека эта мизерная цель, которую европейский прогресс начертал на своих знаменах?
Не простые вопросы задает Гончаров человеку. С развитием цивилизации они нисколько не смягчились. Напротив, в конце XX века они приобрели угрожающую остроту. Совершенно очевидно, что технический прогресс с его хищным отношением к природе подвел человечество к роковому рубежу: или нравственное самосовершенствование и смена технологий в общении с природой — или гибель всего живого на земле.
Роман «Обломов».
С 1847 года обдумывал Гончаров горизонты нового романа: эта дума ощутима и в очерках «Фрегат „Паллада“, где он сталкивает тип делового и практичного англичанина с русским помещиком, живущим в патриархальной Обломовке. Да и в „Обыкновенной истории“ такое столкновение двигало сюжет. Не случайно Гончаров однажды признался, что в „Обыкновенной истории“, „Обломове“ и „Обрыве“ видит он не три романа, а один. Работу над „Обломовым“ писатель завершил в 1858 году и опубликовал в первых четырех номерах журнала „Отечественные записки“ за 1859 год.
Добролюбов о романе.
»Обломов» встретил единодушное признание, но мнения о смысле романа резко разделились. Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» увидел в «Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Илья Ильич Обломов — «коренной народный наш тип», символизирующий лень, бездействие и застой всей крепостнической системы отношений. Он — последний в ряду «лишних людей» — Онегиных, Печориных, Бельтовых и Рудиных. Подобно своим старшим предшественникам, Обломов заражен коренным противоречием между словом и делом, мечтательностью и практической никчемностью. Но в Обломове типичный комплекс «лишнего человека» доведен до парадокса, до логического конца, за которым — распад и гибель человека. Гончаров, по мнению Добролюбова, глубже всех своих предшественников вскрывает корни обломовского бездействия.
В романе обнажается сложная взаимосвязь рабства и барства. «Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура,- пишет Добролюбов.- Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других,- развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-то границу… Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере — чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится…»
Но потому и слуга Захар в известном смысле «барин» над своим господином: полная зависимость от него Обломова дает возможность и Захару спокойно спать на своей лежанке. Идеал существования Ильи Ильича — «праздность и покой» — является в такой же мере вожделенной мечтою и Захара. Оба они, господин и слуга,- дети Обломовки.
«Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней». У господского дома тоже с незапамятных времен обвалилась галерея, и крыльцо давно собирались починить, но до сих пор не починили.
«Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам,- заключает Добролюбов.- В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово».
«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности,- я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он — Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали,- я думаю, что это все пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,- я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку»,- пишет Добролюбов.
Дружинин о романе.
Так сложилась и окрепла одна точка зрения на роман Гончарова «Обломов», на истоки характера главного героя. Но уже среди первых критических откликов появилась иная, противоположная оценка романа. Она принадлежит либеральному критику А. В. Дружинину, написавшему статью «Обломов», роман Гончарова».
Дружинин тоже полагает, что характер Ильи Ильича отражает существенные стороны русской жизни, что «Обломова» изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиною». Но, по мнению Дружинина, «напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви».
«Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова». В чем же видит Дружинин преимущества Обломова и обломовщины? «Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей перед практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых…»
Дружининский подход к осмыслению Обломова и обломовщины не стал популярным в XIX веке. С энтузиазмом большинством была принята добролюбовская трактовка романа. Однако, по мере того как восприятие «Обломова» углублялось, открывая читателю новые и новые грани своего содержания, дружининская статья стала привлекать внимание. Уже в советское время М. М. Пришвин записал в дневнике: «Обломов». В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мертво-деятельных людей (Ольга и Штольц). Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское «неделание». Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлено обломовскому покою».
Полнота и сложность характера Обломова. В свете этих диаметрально противоположных трактовок Обломова и обломовщины присмотримся внимательно к тексту очень сложного и многослойного содержания гончаровского романа, в котором явления жизни «вертятся со всех сторон». Первая часть романа посвящена одному обычному дню жизни Ильи Ильича. Жизнь эта ограничена пределами одной комнаты, в которой лежит и спит Обломов. Внешне здесь происходит очень мало событий. Но картина полна движения. Во-первых, беспрестанно изменяется душевное состояние героя, комическое сливается с трагическим, беспечность с внутренним мучением и борьбой, сон и апатия с пробуждением и игрою чувств. Во-вторых, Гончаров с пластической виртуозностью угадывает в предметах домашнего быта, окружающих Обломова, характер их хозяина. Тут он идет по стопам Гоголя. Автор подробно описывает кабинет Обломова. На всех вещах — заброшенность, следы запустения: валяется прошлогодняя газета, на зеркалах слой пыли, если бы кто-нибудь решился обмакнуть перо в чернильницу — оттуда вылетела бы муха. Характер Ильи Ильича угадан даже через его туфли, длинные, мягкие и широкие. Когда хозяин не глядя опускал с постели ноги на пол, он непременно попадал в них сразу. Когда во второй части романа Андрей Штольц пытается пробудить героя к деятельной жизни, в душе Обломова царит смятение, и автор передает это через разлад его с привычными вещами. «Теперь или никогда!», «Быть или не быть!» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».
Символичен также образ халата в романе и целая история отношений к нему Ильи Ильича. Халат у Обломова особенный, восточный, «без малейшего намека на Европу». Он как послушный раб повинуется самомалейшему движению тела его хозяина. Когда любовь к Ольге Ильинской пробуждает героя на время к деятельной жизни, его решимость связывается с халатом: «Это значит,- думает Обломов,- вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума…» Но в момент заката любви, подобно зловещему предзнаменованию, мелькает в романе угрожающий образ халата. Новая хозяйка Обломова Агафья Матвеевна Пшеницына сообщает, что она достала халат из чулана и собирается помыть его и почистить.
Связь внутренних переживаний Обломова с принадлежащими ему вещами создает в романе комический эффект. Не что-либо значительное, а туфли и халат характеризуют его внутреннюю борьбу. Обнаруживается застарелая привычка героя к покойной обломовской жизни, его привязанность к бытовым вещам и зависимость от них. Но здесь Гончаров не оригинален. Он подхватывает и развивает известный нам по «Мертвым душам» гоголевский прием овеществления человека. Вспомним, например, описания кабинетов Манилова и Собакевича.
Особенность гончаровского героя заключается в том, что его характер этим никак не исчерпывается и не ограничивается. Наряду с бытовым окружением в действие романа включаются гораздо более широкие связи, оказывающие воздействие на Илью Ильича. Само понятие среды, формирующей человеческий характер, у Гончарова безмерно расширяется. Уже в первой части романа Обломов не только комический герой: за юмористическими эпизодами проскальзывают иные, глубоко драматические начала. Гончаров использует внутренние монологи героя, из которых мы узнаем, что Обломов — живой и сложный человек. Он погружается в юношеские воспоминания, в нем шевелятся упреки за бездарно прожитую жизнь. Обломов стыдится собственного барства, как личность, возвышается над ним. Перед героем встает мучительный вопрос: «Отчего я такой?» Ответ на него содержится в знаменитом «Сне Обломова». Здесь раскрыты обстоятельства, оказавшие влияние на характер Ильи Ильича в детстве и юности. Живая, поэтическая картина Обломовки — часть души самого героя. В нее входит российское барство, хотя барством Обломовка далеко не исчерпывается. В понятие «обломовщина» входит целый патриархальный уклад русской жизни не только с отрицательными, но и с глубоко поэтическими его сторонами.
На широкий и мягкий характер Ильи Ильича оказала влияние среднерусская природа с мягкими очертаниями отлогих холмов, с медленным, неторопливым течением равнинных рек, которые то разливаются в широкие пруды, то стремятся быстрой нитью, то чуть-чуть ползут по камушкам, будто задумавшись. Эта природа, чуждающаяся «дикого и грандиозного», сулит человеку покойную и долговременную жизнь и незаметную, сну подобную смерть. Природа здесь, как ласковая мать, заботится о тишине, размеренном спокойствии всей жизни человека. И с нею заодно особый «лад» крестьянской жизни с ритмичной чередой будней и праздников. И даже грозы не страшны, а благотворны там: они «бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе». Ни страшных бурь, ни разрушений не бывает в том краю. Печать неторопливой сдержанности лежит и на характерах людей, взращенных русской матерью-природой.
Под стать природе и создания поэтической фантазии народа. «Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать ни пером описать».
В состав «обломовщины» входит у Гончарова безграничная любовь и ласка, которыми с детства окружен и взлелеян Илья Ильич. «Мать осыпала его страстными поцелуями», смотрела «жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, не болит ли что-нибудь, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару».
Сюда же входит и поэзия деревенского уединения, и картины щедрого русского хлебосольства с исполинским пирогом, и гомерическое веселье, и красота крестьянских праздников под звуки балалайки… Отнюдь не только рабство да барство формируют характер Ильи Ильича. Есть в нем что-то от сказочного Иванушки, мудрого ленивца, с недоверием относящегося ко всему расчетливому, активному и наступательному. Пусть суетятся, строят планы, снуют и толкутся, начальствуют и лакействуют другие. А он живет спокойно и несуетно, подобно былинному герою Илье Муромцу, сиднем сидит тридцать лет и три года.
Вот являются к нему в петербургском современном обличье «калики перехожие», зовут его в странствие по морю житейскому. И тут мы вдруг невольно чувствуем, что симпатии наши на стороне «ленивого» Ильи Ильича. Чем соблазняет Обломова петербургская жизнь, куда зовут его приятели? Столичный франт Волков сулит ему светский успех, чиновник Судьбинский — бюрократическую карьеру, литератор Пенкин — пошлое литературное обличительство.
«Увяз, любезный друг, по уши увяз,- сетует Обломов на судьбу чиновника Судьбинского.- И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… А как мало тут человека-то нужно: ума его, золи, чувства,- зачем это?»
«Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? — обличает Обломов пустоту светской суеты Волкова.-… Да в десять мест в один день — несчастный!» — заключает он, «перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой».
В жизни деловых людей Обломов не видит поприща, отвечающего высшему назначению человека. Так не лучше ли оставаться обломовцем, но сохранить в себе человечность и доброту сердца, чем быть суетным карьеристом, деятельным Обломовым, черствым и бессердечным? Вот приятель Обломова Андрей Штольц поднял-таки лежебоку с дивана, и Обломов какое-то время предается той жизни, в которую с головой уходит Штольц.
«Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты.- „Целые дни,- ворчал Обломов, надевая халат,- не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь!“ — продолжал он, ложась на диван.
»Какая же тебе нравится?» — спросил Штольц.- «Не такая, как здесь».- «Что ж здесь именно так не понравилось?» — «Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице; только и слышишь: „Этому дали то, тот получил аренду“.- „Помилуйте, за что?“ — кричит кто-нибудь. „Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!“ Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?»
Обломов лежит на диване не только потому, что как барин может ничего не делать, но и потому, что как человек он не желает жить в ущерб своему нравственному достоинству. Его «ничегонеделание» воспринимается в романе еще и как отрицание бюрократизма, светской суеты и буржуазного делячества. Лень и бездеятельность Обломова вызваны резко отрицательным и справедливо скептическим отношением его к жизни и интересам современных практически-деятельных людей.
Андрей Штольц как антипод Обломова. Обломову противопоставлен в романе Андрей Штольц. Первоначально он мыслился Гончаровым как положительный герой, достойный антипод Обломову. Автор мечтал, что со временем много «Штольцев явится под русскими именами». Он пытался соединить в Штольце немецкое трудолюбие, расчетливость и пунктуальность с русской мечтательностью и мягкостью, с философическими раздумьями о высоком предназначении человека. Отец у Штольца — деловитый бюргер, а мать — русская дворянка. Но синтеза немецкой практичности и русской душевной широты у Гончарова не получилось. Положительные качества, идущие от матери, в Штольце только декларированы: в плоть художественного образа они так и не вошли. В Штольце ум преобладает над сердцем. Это натура рациональная, подчиняющая логическому контролю даже самые интимные чувства и с недоверием относящаяся к поэзии свободных чувств и страстей. В отличие от Обломова, Штольц — энергичный, деятельный человек. Но каково же содержание его деятельности? Какие идеалы вдохновляют Штольца на упорный, постоянный труд? По мере развития романа читатель убеждается, что никаких широких идеалов у героя нет, что практика его направлена на личное преуспеяние и мещанский комфорт.
Обломов и Ольга Ильинская.
И в то же время за русским типом буржуа проглядывает в Штольце образ Мефистофеля. Как Мефистофель Фаусту, Штольц в виде искушения «подсовывает» Обломову Ольгу Ильинскую. Еще до знакомства ее с Обломовым Штольц обговаривает условия такого «розыгрыша». Перед Ольгой ставится задача — поднять с кровати лежебоку Обломова и вытащить его в большой свет. Если чувства Обломова к Ольге искренни и безыскусственны, то в чувствах Ольги ощутим последовательный расчет. Даже в минуты увлечения она не забывает о своей высокой миссии: «ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем». Выходит, Ольга любит в Обломове не самого Обломова, а свое собственное отражение. Для нее Обломов — «какая-то Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом». Но что же предлагает Ольга Обломову взамен его лежания на диване? Какой свет, какой лучезарный идеал? Увы, программу пробуждения Обломова в умненькой головке Ольги вполне исчерпывает штольцевский горизонт: читать газеты, хлопотать по устройству имения, ехать в приказ. Все то же, что советует Обломову и Штольц: «… Избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить — все это ты должен и сможешь сделать». Этот минимум для Штольца и воспитанной им Ольги — максимум. Не потому ли, ярко вспыхнув, быстро увядает любовь Обломова и Ольги?
Как писал русский поэт начала XX века И. Ф. Анненский, «Ольга — миссионерка умеренная, уравновешенная. В ней не желание пострадать, а чувство долга… Миссия у нее скромная — разбудить спящую душу. Влюбилась она не в Обломова, а в свою мечту. Робкий и нежный Обломов, который относился к ней так послушно и так стыдливо, любил ее так просто, был лишь удобным объектом для ее девической мечты и игры в любовь.
Но Ольга — девушка с большим запасом здравого смысла, самостоятельности и воли, главное. Обломов первый, конечно, понимает химеричность их романа, но она первая его разрывает.
Один критик зло посмеялся и над Ольгой, и над концом романа: хороша, мол, любовь, которая лопнула, как мыльный пузырь, оттого, что ленивый жених не собрался в приказ.
Мне конец этот представляется весьма естественным. Гармония романа кончилась давно, да она, может, и мелькнула всего на два мгновения в Casta diva*, в сиреневой ветке; оба, и Ольга и Обломов, переживают сложную, внутреннюю жизнь, но уже совершенно независимо друг от друга; в совместных отношениях идет скучная проза, когда Обломова посылают то за двойными звездами, то за театральными билетами, и он, кряхтя, несет иго романа.
Нужен был какой-нибудь вздор, чтобы оборвать эти совсем утончившиеся нити».
Головной, рассудочно-экспериментальной любви Ольги противопоставлена душевно-сердечная, не управляемая никакой внешней идеей любовь Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Под уютным кровом ее дома находит Обломов желанное успокоение.
Достоинство Ильи Ильича заключается в том, что он лишен самодовольства и сознает свое душевное падение: «Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье… Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его… да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас».
Когда Ольга в сцене последнего свидания заявляет Обломову, что она любила в нем то, на что указал ей Штольц, и упрекает Илью Ильича в голубиной кроткости и нежности, у Обломова подкашиваются ноги. «Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: „Да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!..“
»Отчего его пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления стыда? — задавал вопрос тонко чувствовавший Обломова И. Ф. Анненский и отвечал на него так.- Посмотрите, что противопоставляется обломовской лени: карьера, светская суета, мелкое сутяжничество или культурно-коммерческая деятельность Штольца. Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни?»
В финале романа угасает не только Обломов. Окруженная мещанским комфортом, Ольга начинает все чаще испытывать острые приступы грусти и тоски. Ее тревожат вечные вопросы о смысле жизни, о цели человеческого существования. И что же говорит ей в ответ на все тревоги бескрылый Штольц? «Мы не титаны с тобой… мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту…» Перед нами, в сущности, самый худший вариант обломовщины, потому что у Штольца она тупая и самодовольная.
Историко-философский смысл романа.
В конфликте Обломова со Штольцем за социальными и нравственными проблемами просвечивает еще и другой, историко-философский смысл. Печально-смешной Обломов бросает в романе вызов современной цивилизации с ее идеей исторического прогресса. «И сама история,- говорит он,- только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка».
Обломов готов выйти из суетного круга истории. Он мечтает о том, чтобы люди угомонились наконец и успокоились, бросили погоню за призрачным комфортом, перестали заниматься техническими играми, оставили большие города и вернулись к деревенскому миру, к простой, непритязательной жизни, слитой с ритмами окружающей природы. Здесь герой Гончарова в чем-то предвосхищает мысли позднего Л. Н. Толстого, отрицавшего технический прогресс, звавшего людей к опрощению и к отказу от излишеств цивилизации.
Роман «Обрыв».
Поиски путей органического развития России, снимающего крайности патриархальности и буржуазного прогресса, продолжил Гончаров и в последнем романе — «Обрыв». Он был задуман еще в 1858 году, но работа растянулась, как всегда, на целое десятилетие, и «Обрыв» был завершен в 1868 году. По мере развития в России революционного движения Гончаров становится все более решительным противником крутых общественных перемен. Это сказывается на изменении замысла романа. Первоначально он назывался «Художник». В главном герое, художнике Райском, писатель думал показать проснувшегося к деятельной жизни Обломова. Основной конфликт произведения строился по-прежнему на столкновении старой, патриархально-крепостнической России с новой, деятельной и практической, но решался он в первоначальном замысле торжеством России молодой.
Соответственно, в характере бабушки Райского резко подчеркивались деспотические замашки старой помещицы-крепостницы. Демократ Марк Волохов мыслился героем, сосланным за революционные убеждения в Сибирь. А центральная героиня романа, гордая и независимая Вера, порывала с «бабушкиной правдой» и уезжала вслед за любимым Волоховым.
В ходе работы над романом многое изменилось. В характере бабушки Татьяны Марковны Бережковой все более подчеркивались положительные нравственные ценности, удерживающие жизнь в надежных «берегах». А в поведении молодых героев романа нарастали «падения» и «обрывы». Изменилось и название романа: на смену нейтральному — «Художник» — пришло драматическое — «Обрыв».
Жизнь внесла существенные перемены и в поэтику гончаровского романа. По сравнению с «Обломовым» теперь гораздо чаще Гончаров использует исповедь героев, их внутренний монолог. Усложнилась и повествовательная форма. Между автором и героями романа появился посредник — художник Райский. Это человек непостоянный, дилетант, часто меняющий свои художественные пристрастия. Он немножко музыкант и живописец, а немножко скульптор и писатель. В нем живуче барское, обломовское начало, мешающее герою отдаться жизни глубоко, надолго и всерьез. Все события, все люди, проходящие в романе, пропускаются сквозь призму восприятия этого переменчивого человека. В результате жизнь освещается в самых разнообразных ракурсах: то глазами живописца, то сквозь зыбкие, неуловимые пластическим искусством музыкальные ощущения, то глазами скульптора или писателя, задумавшего большой роман. Через посредника Райского Гончаров добивается в «Обрыве» чрезвычайно объемного и живого художественного изображения, освещающего предметы и явления «со всех сторон».
Если в прошлых романах Гончарова в центре был один герой, а сюжет сосредоточивался на раскрытии его характера, то в «Обрыве» эта целеустремленность исчезает. Здесь множество сюжетных линий и соответствующих им героев. Усиливается в «Обрыве» и мифологический подтекст гончаровского реализма. Нарастает стремление возводить текучие минутные явления к коренным и вечным жизненным основам. Гончаров вообще был убежден, что жизнь при всей ее подвижности удерживает неизменные устои. И в старом, и в новом времени эти устои не убывают, а остаются непоколебимыми. Благодаря им жизнь не погибает и не разрушается, а пребывает и развивается.
Живые характеры людей, а также конфликты между ними здесь прямо возводятся к мифологическим основам, как русским, национальным, так и библейским, общечеловеческим. Бабушка — это и женщина 40-60-х годов, но одновременно и патриархальная Россия с ее устойчивыми, веками выстраданными нравственными ценностями, едиными и для дворянского поместья, и для крестьянской избы. Вера — это и эмансипированная девушка 40-60-х годов с независимым характером и гордым бунтом против авторитета бабушки. Но это и молодая Россия во все эпохи и все времена с ее свободолюбием и бунтом, с ее доведением всего до последней, крайней черты. А за любовной драмой Веры с Марком встают древние сказания о блудном сыне и падшей дочери. В характере же Волохова ярко выражено анархическое, буслаевское начало.
Марк, подносящий Вере яблоко из «райского», бабушкиного сада — намек на дьявольское искушение библейских героев Адама и Еьы. И когда Райский хочет вдохнуть жизнь и страсть в прекрасную внешне, но холодную как статуя кузину Софью Беловодову, в сознании читателя воскрешается античная легенда о скульпторе Пигмалионе и ожившей из мрамора прекрасной Галатее.
В первой части романа мы застаем Райского в Петербурге. Столичная жизнь как соблазн представала перед героями и в «Обыкновенной истории», и в «Обломове». Но теперь Гончаров не обольщается ею: деловому, бюрократическому Петербургу он решительно противопоставляет русскую провинцию. Если раньше писатель искал признаки общественного пробуждения в энергичных, деловых героях русской столицы, то теперь он рисует их ироническими красками. Друг Райского, столичный чиновник Аянов — ограниченный человек. Духовный горизонт его определен взглядами сегодняшнего начальника, убеждения которого меняются в зависимости от обстоятельств.
Попытки Райского разбудить живого человека в его кузине Софье Беловодовой обречены на полное поражение. Она способна пробудиться на мгновение, но образ жизни ее не меняется. В итоге Софья так и остается холодной статуей, а Райский выглядит как неудачник Пигмалион.
Расставшись с Петербургом, он бежит в провинцию, в усадьбу своей бабушки Малиновку, но с целью только отдохнуть. Он не надеется найти здесь бурные страсти и сильные характеры. Убежденный в преимуществах столичной жизни, Райский ждет в Малиновке идиллию с курами и петухами и как будто получает ее. Первым впечатлением Райского является его кузина Марфинька, кормящая голубей и кур.
Но внешние впечатления оказываются обманчивыми. Не столичная, а провинциальная жизнь открывает перед Райским свою неисчерпаемую, неизведанную глубину. Он по очереди знакомится с обитателями российского «захолустья», и каждое знакомство превращается в приятную неожиданность. Под корой дворянских предрассудков бабушки Райский открывает мудрый и здравый народный смысл. А его влюбленность в Марфиньку далека от головного увлечения Софьей Беловодовой. В Софье он ценил лишь собственные воспитательные способности, Марфинька же увлекает Райского другим. С нею он совершенно забывает о себе, тянется к неизведанному совершенству. Марфинька — это полевой цветок, выросший на почве патриархального русского быта: «Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! Не хочу никуда!»
Потом внимание Райского переключается на черноглазую дикарку Веру, девушку умную, начитанную, живущую своим умом и волей. Ее не пугает обрыв рядом с усадьбой и связанные с ним народные поверья. Черноглазая, своенравная Вера — загадка для дилетанта в жизни и в искусстве Райского, который преследует героиню на каждом шагу, пытаясь ее разгадать.
И тут на сцену выступает друг загадочной Веры, современный отрицатель-нигилист Марк Волохов. Все его поведение — дерзкий вызов принятым условностям, обычаям, узаконенным людьми формам жизни. Если принято входить в дверь — Марк влезает в окно. Если все охраняют право собственности — Марк спокойно, среди бела дня таскает яблоки из сада Бережковой. Если люди берегут книги — Марк имеет привычку вырывать прочитанную страницу и употреблять ее на раскуривание сигары. Если обыватели разводят кур и петухов, овец и свиней и прочую полезную скотину, то Марк выращивает страшных бульдогов, надеясь в будущем затравить ими полицмейстера.
Вызывающа в романе и внешность Марка: открытое и дерзкое лицо, смелый взгляд серых глаз. Даже руки у него длинные, большие и цепкие, и он любит сидеть неподвижно, поджав ноги и собравшись в комок, сохраняя свойственную хищникам зоркость и чуткость, словно бы готовясь к прыжку.
Но есть в выходках Марка какая-то бравада, за которой скрываются неприкаянность и беззащитность, уязвленное самолюбие. «Дела у нас русских нет, а есть мираж дела»,- звучит в романе знаменательная фраза Марка. Причем она настолько всеобъемлюща и универсальна, что ее можно адресовать и чиновнику Аянову, и Райскому, и самому Марку Волохову.
Чуткая Вера откликается на волоховский протест именно потому, что под ним чувствуется трепетная и незащищенная душа. Революционеры-нигилисты, в глазах писателя, дают России необходимый толчок, потрясающий сонную Обломовку до основания. Может быть, России суждено переболеть и революцией, но именно переболеть: творческого, нравственного, созидательного начала в ней Гончаров не принимает и не обнаруживает.
Волохов способен пробудить в Вере только страсть, в порыве которой она решается на безрассудный поступок. Гончаров и любуется взлетом страстей, и опасается губительных «обрывов». Заблуждения страстей неизбежны, но не они определяют движение глубинного русла жизни. Страсти — это бурные завихрения над спокойной глубиною медленно текущих вод. Для глубоких натур эти вихри страстей и «обрывы» — лишь этап, лишь болезненный перехлест на пути к вожделенной гармонии.
А спасение России от «обрывов», от разрушительных революционных катастроф Гончаров видит в Тушиных. Тушины — строители и созидатели, опирающиеся в своей работе на тысячелетние традиции российского хозяйствования. У них в Дымках «паровой пильный завод» и деревенька, где все домики на подбор, ни одного под соломенной крышей. Тушин развивает традиции патриархально-общинного хозяйства. Артель его рабочих напоминает дружину. «Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством». Гончаров ищет в Тушине гармоническое единство старого и нового, прошлого и настоящего. Тушинская деловитость и предприимчивость совершенно лишена буржуазно ограниченных, хищнических черт. «В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния» Гончаров видит «какого-то заволжского Роберта Овена».
Не секрет, что из четырех великих романистов России Гончаров наименее популярен. В Европе, которая зачитывается Тургеневым, Достоевским и Толстым, Гончаров читается менее других. Наш деловитый и решительный XX век не хочет прислушиваться к мудрым советам честного русского консерватора. А между тем Гончаров-писатель велик тем, чего людям XX века явно недостает. На исходе этого столетия человечество осознало, наконец, что слишком обожествляло научно-технический прогресс и самоновейшие результаты научных знаний и слишком бесцеремонно обращалось с наследством, начиная с культурных традиций и кончая богатствами природы. И вот природа и культура все громче и предупреждающе напоминают нам, что всякое агрессивное вторжение в их хрупкое вещество чревато необратимыми последствиями, экологической катастрофой. И вот мы чаще и чаще оглядываемся назад, на те ценности, которые определяли нашу жизнестойкость в прошлые эпохи, на то, что мы с радикальной непочтительностью предали забвению. И Гончаров-художник, настойчиво предупреждавший, что развитие не должно порывать органические связи с вековыми традициями, вековыми ценностями национальной культуры, стоит не позади, а впереди нас.
* Чистой богине (итал.)
Вопросы и задания: В чем заключаются особенности Гончарова-художника? Что привлекает вас в добролюбовской оценке Обломова и обломовщины? Сопоставьте добролюбовскую и дружининскую трактовки романа и выскажите ваше к ним отношение. Что сближает художественный метод Гончарова с Гоголем и в чем их отличие? Что общего у Обломова с «лишними людьми» (Онегиным, Печориным)? Ваша оценка любви Обломова и Ольги. В чем видит Гончаров ограниченность Штольца? Почему обломовская лень не производит на нас впечатления пошлости? В чем вы видите историко-философский смысл романа? Как проблемы, поставленные в «Обломове», решаются в «Обрыве»? Чем близки нам раздумья и тревоги Гончарова-писателя?
IV. Ликейские острова
Вид берега. – Бо-Тсунг. – Базиль Галль. – Идиллия. – Дорога в столицу. – Столица Чуди. – Каменные работы. – Пейзажи. – Жители, дома и храмы. – Поля. – Королевский замок. – Зависимость островов. – Протестантский миссионер. – Другая сторона идиллии. – Напа-Киян. – Жилище миссионера. – Напакиянский губернатор. – Корабль с китайскими эмигрантами. – Прогулки и отплытие.
С 31 января по 9-е февраля 1854 г. Порт Напа-Киян. Я всё время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный; всё мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом… Придешь потом через несколько дней – и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы: берега дышат жизнью, всё ярко и ясно…
В таких же бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала мне Ликейские острова. Масса земли, не то синей, не то серой, местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко вскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. Издали казалось, что из воды вырывались клубы густого белого дыма; а кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился жемчуг да изумруды. Берег темен; но вдруг луч падал на какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел этот клочок!
Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер; наконец он утих и позволил нам зайти за рифы, на рейд. Это было сделано с рассветом; я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная, полная картина, прихотливо изрезанный красивыми линиями, со всеми своими очаровательными подробностями, в красках, в блеске.
Берег, особенно в сравнении с нагасакским, казался низменным; но зато как он разнообразен! Налево от нас выдающаяся в море часть выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от непогод, кое-где кусты да глинистые отмели. Прямо перед нами берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию пейзажей, один другого лучше. Низменная часть тонет в густых садах; холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными заплатами; вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят дружными кучками с своими горизонтальными ветвями.
Что за зелень там, в этой куче деревьев? чем засеяны поля? каковы дома?.. Скорей, скорей на берег! Две коралловые серые скалы выступают далеко из берегов и висят над водой; на вершине одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы разных форм, цилиндры, полукруги, овалы; издалека примешь их за здания – так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется низменной, песчаной отмелью, заливаемой приливом. Вплоть почти под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны; местами высунулись из воды камни; во время отлива они видны, а в прилив прячутся.
Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без хороших карт! а тут одна только карта и есть порядочная – Бичи. Через час катер наш, чуть-чуть задевая килем за каменья обмелевшей при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы выскочили из шлюпки и очутились – в саду не в саду и не в лесу, а в каком-то парке, под непроницаемым сводом отчасти знакомых и отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных знакомцев было тут немного сосен, а то всё новое, у нас невиданное.
Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный и пряный запах тропических лесов, охватила теплая влажность ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других, которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу или саду, манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. За отмелью начиналась аллея, или улица – как хотите, маленькой деревушки Бо-Тсунг.
Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.): он в числе первых посетил Ликейские острова, и взгляните на приложенную к книге картинку, вид острова: это именно тот, где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Всё это покажется похожим на пейзажи – с деревьями из моху, с стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки сделать что-нибудь похожее на действительность.
Что это такое Ликейские острова, или, как писали у нас в старых географиях, Лиеу-Киеу, или, как иностранцы называют их, Лю-чу (Loo-сhoo), а по выговору жителей Ду-чу? Развертываете того же Галля, думаете прочесть путешествие и читаете – идиллию. Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто. Читаете, что люди, лошади, быки – здесь карлики, а куры и петухи – великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в дома и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов… Что это? где мы? среди древних пастушеских народов в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?
Всё это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и банианов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.
Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись – совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.
«Что это такое? – твердил я, удивляясь всё более и более – Этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер[93] и Геснеру[94] с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках». А тут кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии.
«Куда же мы идем?» – вдруг спросил кто-то из нас, и все мы остановились. «Куда эта дорога?» – спросил я одного жителя по-английски. Он показал на ухо, помотал головой и сделал отрицательный знак. «Пойдемте в столицу, – сказал И. В. Фуругельм, – в Чую, или Чуди (Tshudi, Tshue – по-китайски Шоу-ли, главное место, но жители произносят Шули); до нее час ходьбы по прекрасной дороге, среди живописных пейзажей». – «Пойдемте».
Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху – это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век.
Лес как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, – ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьем, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… «Кто учил этих детей природы строить?» – невольно спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.
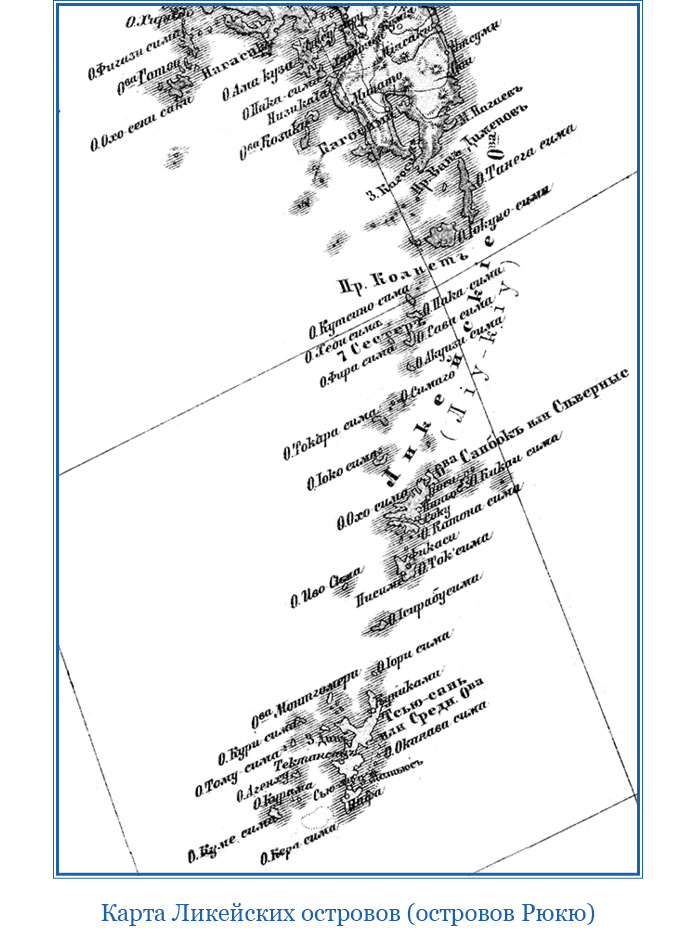
Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ – пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела – всё просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?
Тронет, и уж тронула. Американцы, или люди Соединенных Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под свое покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединенных Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.
– Куда ведет мост? – спросили мы И. В. Фуругельма, который прежде нас пришел с своим судном «Князь Меншиков» и успел ознакомиться с местностью острова.
– В Напу, или в Напа-Киян: вон он! – отвечал Фуругельм, указывая через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу и совсем пропадали в зелени.
Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом в кадках. При выходе из деревни был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулки, бросив свои товары; другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины красивы, стройны: любой из них годится в Меналки, а Хлои их ни на что не похожи! Нет, жаркие климаты неблагоприятны для дам, и прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок.
Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы: они местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком? Зато местами коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету. Выйдя из деревни, мы вступили в великолепнейшую аллею, которая окаймлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме банианов, замечательны вышиной и красотой толстые деревья, из волокон которых японцы делают свою писчую бумагу; потом разные породы мирт; изредка видна в саду кокосовая пальма, с орехами, и веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачна против виденных нами на Яве и в Сингапуре: видно, ей холодно здесь – листья жидки и малы. Мы прошли мимо какого-то, загороженного высокой каменной и массивной стеной, здания с тремя входами, наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах: это буддийский монастырь. В щели, из-за стены, выглядывало несколько бонз с бритыми головами.
Всё это место напоминало мне наши старые и известные европейские сады. От аллей шло множество дорожек и переулков, налево – в лес и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо – в обработанные поля. Дорога змееобразно вилась по холмам и долинам… Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородною зеленью, то бледною, то изумрудно-темною!
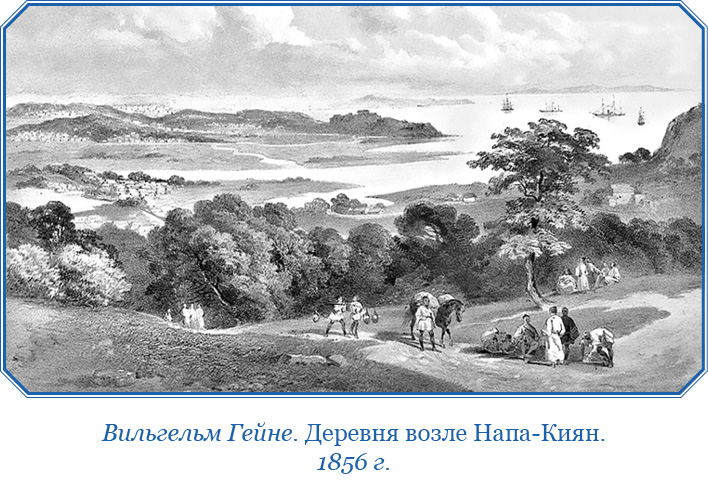
Всё открывшееся перед нами пространство, с лесами и горами, было облито горячим блеском солнца; кое-где в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, капусту и проч. Над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и надежным приютом.
Всё это не деревья, не хижины: это древние веси, сени, кущи и пажити; иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было видеть себя и товарищей, в наших коротких, обтянутых платьях, быстро и звонко шагающих под тенью исполинских банианов. Маленькие, хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев, пугались при встрече с нами; они брыкались и бросались в сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины хотя и не брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они бросались в сторону. Только одна девочка, лет тринадцати и, сверх ожидания, хорошенькая, вышла из сада на дорогу и смело, с любопытством, во все глаза смотрела на нас, как смотрят бойкие дети. «Какой большой петух! – показывая на петуха, сказал кто-то – По крайней мере в полтора раза выше наших».
Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из которых Посьет выломал тут же себе славную зеленую трость. Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом строем красивых деревьев и т. д. «Что это, ячмень, кажется!» – спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый ячмень! По террасам, с одной на другую, текли нити воды, орошая посевы риса.
Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть: на пешеходов ли, спешивших, с маленькими лошадками и клажей на них, из столицы и в столицу; на дальнюю ли гору, которая мягкой зеленой покатостью манила войти на нее и посидеть под кедрами; солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами, почти совсем закрытыми ветвями. Что это за сила растительности! какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково богатство и разнообразие видов, что перестаешь наконец дорожить увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно смотришь вокруг: всё равно, куда ни смотри, одно и то же – всё прекрасно, игриво, зелено.
Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто: наши узкие костюмы, из сукна и других плотных материй, просто невозможны в этих климатах. Каков жар должен быть летом! Хорошо еще, что ветер с моря приносит со всех сторон постоянно прохладу! А всего в 26-м градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны.
На горе начались хижины – всё как будто игрушки; жаль, что они прячутся за эти сплошные заборы; но иначе нельзя: ураганы, или тайфуны, в полосу которых входят и Лю-чу, разметали бы, как сор, эти птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе леса уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась далеко от подошвы ее в сторону! Я устал любоваться, равнодушно смотрел на персиковые деревья в полном цвету, на миртовые и кипарисные кусты! Мы вошли на гору, окинули взглядом всё пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии видов. Глаз видит далеко: с обеих сторон острова видно море на третьем плане. Вон и риф, с пеной бурунов, еще вчера грозивший нам смертью! «Я в бурю всю ночь не спал и молился за вас, – сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется, методист, – я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы». Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается очень опасным.
Наконец мы пришли. «Э! да не шутя столица!» – подумаешь, глядя на широкие ворота с фронтоном в китайском вкусе, с китайскою же надписью.
«Что там написано? прочтите», – спросили мы Гошкевича. «Не вижу, высоко», – отвечал он. Мы забыли, что он был близорук.
Мы прошли ворота: перед нами тянулась бесконечная широкая улица, или та же дорога, только не мощенная крупными кораллами, а убитая мелкими каменьями, как шоссе, с сплошными, по обеим сторонам, садами или парками, с великолепной растительностью. Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли. Никто нас не встретил, никто даже не показывался: все как будто выехали из города. Немногие встречные и, между прочим, один доктор или бонз, с бритой головой, в халате из травяного холста, торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них, они, с выражением величайшей покорности, а больше, кажется, страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых ворот показывались и исчезали люди или смотрели в щели. Видно, что в этой улице жил высший или зажиточный класс: к домам их вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли всё далее; улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом.
Это замок с каменной, массивной стеной, сажени в четыре вышины, местами поросшей мохом и ползучими растениями. Широкое каменное крыльцо, грубой работы, вело к высокому порталу, заколоченному наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде ни признака жизни; всё окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли из-за тридевяти земель как будто доставать жар-птицу. У ворот, в стороне, выстроена деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие мы видели в Нагасаки. В ней на циновках сидели на пятках ликейцы, вероятно слуги дворца: и те не шевелились, тоже – как каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами, между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон огороженная забором и окруженная бассейном кумирня; вдали узкие, но правильные улицы; кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и по покатости, – решительно кущи да сени древнего мира!
Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми – всё свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния; что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее… Но всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других – «люди Соединенных Штатов» с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации…
Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно вверх по крутой каменной тропинке, всё из кораллов. Других тропинок я не видал; и те, которые ведут из улиц в поля, все идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за нами, но издали, робко. И. В. Фуругельм, которому не нравилось это провожанье, махнул им рукой, чтоб шли прочь: они в ту же минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении, пока он перестал обращать на них внимание, а потом опять шли за нами, прячась в кусты, а где кустов не было, следовали по дороге, и всё издали. Я, однако ж, знаками подозвал одного к себе. Он не вдруг подошел: сделает два шага и остановится в нерешимости; наконец подошел. В это время надо было спускаться по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке, проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. Я оперся на ликейца, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и осторожно и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая остановиться, и бежит до первого большого дерева, за которое и уцепится.
Внизу мы прошли через живописнейший лесок – нельзя нарочно расположить так красиво рощу – под развесистыми банианами и кедрами, и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно занесенная землетрясением, громадная глыба коралла, вся обросшая мохом и зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда на целый день с музыкой; «с закуской и обедом», – прибавили положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц с маленькими домиками: около каждого теснилась кучка бананов и цветы.
Из нее вышли на другую улицу, прошли несколько домов; улица вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы остановились, очарованные несравненным видом. Представьте пруд, вроде Марли[95], гладкий и чистый, как зеркало; с противоположной стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов, самых нежных, мягких, узорчатых листьев и острых игл. Этот исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть почвы, на которой он растет.
Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед – другое неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была, по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас: кто успевает, запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата; рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас; женщины закрылись. Товар всё тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу, еще пилили дерево, красили простую материю, продавали зелень, табак да разные сласти.
Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшочек с горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два, деревянных же, раскрашенных идола безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола.
Я зашел было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я заметил несколько бритых бонз, всё молодых; один был просто мальчик: вероятно, это служители храмов.
Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал на хребет каждой лошадки; но жители не дают лошадей, хотя я видел у одного забора множество их оседланных и привязанных. Сходя с горы, мы увидали чистенький дворик; я подошел к воротам. Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом; я за ним, со мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули в другую комнату, по-видимому парадную, устланную до того чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева, кажется, обедали. Они зашевелились было готовить нам чай, но мы, чтоб не тревожить их, удалились.
Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому случаю наложен траур на пятьдесят дней. Мы видели многих в белых травяных халатах. Известно, что белый цвет – траурный на Востоке.
Ликейские острова управляются королем. Около трехсот лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли острова в свое владение и обложили данью, которая, по словам здешнего миссионера, простирается до двухсот тысяч рублей на наши деньги. Но, по показанию других, острова могут приносить впятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии острова. Недаром князь Сатсумский считается самым богатым из всех японских князей.
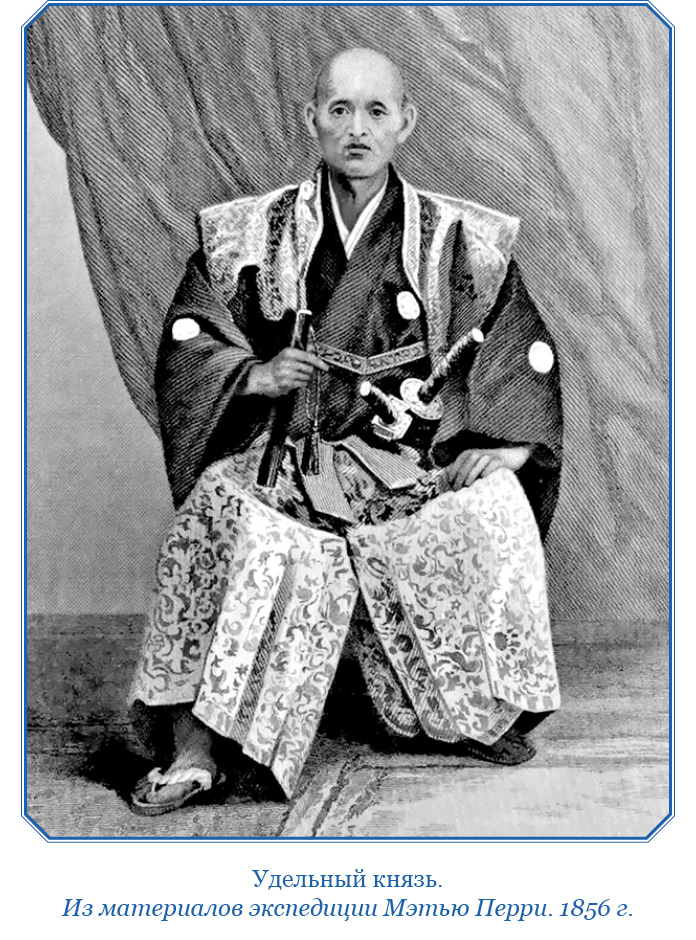
Но дань платится натурою: рисом, который выше всех сортов, и даже японского, также табаком, амброй, тканями из банановых волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.
После ликейцы думали было отложиться от Японии, но были покорены вновь. Ликейский король, в начале царствования, отправляется обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно.
Нынешнему королю всего двенадцать лет. Он поедет в Японию по достижении пятнадцатилетнего возраста. Король живет здесь как пленник, в крепком своем замке, который мы видели, и никому не показывается. Показываться народу, как вам известно, считается для верховной власти неприличным на Востоке. Здешний миссионер проник, однако ж, нечаянно, в китайском платье, в замок и, незамеченный, дошел до покоев короля. Король играл в мячик и долго не замечал постороннего; потом увидел и скрылся. Придворные с поклонами окружили нескромного посетителя и показали дорогу вон.
Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого знают всё по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но и не с данью, а с подарками – так сказал нам миссионер, между тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб не восстановить против себя ни тех, ни других, заранее отрекаются от японцев.
Гошкевич и отец Аввакум отыскали между ликейцами одного знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине, и разменялись подарками. Вот стечения обстоятельств! «Вы мне подарили графин», – сказал ликеец отцу Аввакуму. Последний вспомнил, что это действительно так было.
Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от китайцев, ни от корейцев. С первого раза видно, что в существовании ликейцев не участвовали китайцы. Корейцев я еще не видал и потому не знаю, есть ли сходство у них с ликейцами или нет. У ликейцев глаза большие, не угловатые, как у китайцев, овал лица правильный, скулы не выдаются. Язык у них, по словам миссионера, сродни японскому и составляет, кажется, его идиом. Ликейцы и японцы понимают друг друга. Ближе всего предположить, что они родня между собою.
Мы лениво возвращались домой, не переставая распространять по дороге чувство вроде безотчетного ужаса. Мальчишка лет десяти, с вязанкой зелени, вел другого мальчика лет шести; завидя нас, он бросил вязанку и маленького своего товарища и кинулся без оглядки бежать по боковой тропинке в поля. Возвратясь в деревню Бо-Тсунг, мы втроем, Посьет, Аввакум и я, зашли в ворота одного дома, думая, что сейчас за воротами увидим и крыльцо; но забор шел лабиринтом и был не один, а два, образуя вместе коридор. Мы поворотили направо, потом налево… Конец, что ли? нет, опять коридор направо, точно западня для волков, еще налево – и мы очутились в маленьком садике перед домиком, огороженным еще третьим, бамбуковым, и последним забором. Мы, входя, наткнулись на низенькую, черную, как головешка, старуху с плоским лицом. Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам к лесу, работая во все лопатки. Мы покатились со смеху; она ускорила шаги.
Мы хотели отворить ворота – заперты; зашли с другой стороны к калитке – тоже заперта. Оставалось уйти. Мы посмотрели опять на бегущую всё еще вдали старуху и повернули к выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. Мы вошли в палисадник; он отодвинул одну стену или раму домика, и нам представились миниатюрные комнаты, совершенно как клетки попугая, с своей чистотой, лакированными вещами и белыми циновками. Мы туда не вошли, а попросили огня. Сейчас другой, молодой ликеец принес нам горшок с золой и угольями. Мы взглянули кругом себя – цветы, алоэ, бананы, больше ничего; поблагодарили хозяина и вышли вон. Я посмотрел, что старуха? Она в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан, остановилась и, как орангутанг, глядела сквозь ветви на нас. Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась бежать дальше в лес.
Мы догнали товарищей, которые уже садились в катер. Но во время нашей прогулки вода сбыла, и катер трогал килем дно. Мы стянулись кое-как и добрались до нашего судна, где застали гостей: трех длиннобородых старцев в белых, с черными полосками, халатах и сандалиях на босу ногу. Они приехали от напайского губернатора поздравить с приездом и привезли в подарок зелени, яиц и кур. Их угостили чаем. Один свободно говорил с Гошкевичем, на бумаге, по-китайски, а другой по-английски, но очень мало. И то успех, когда вспомнишь, что наши европейские языки чужды им и по духу, и по формам. Давно ли «человек Соединенных Штатов покровительствует» этим младенцам, а уж кое-чему научил… Ликейцы обещали привезти быков, рыбы, зелени за деньги и уехали.
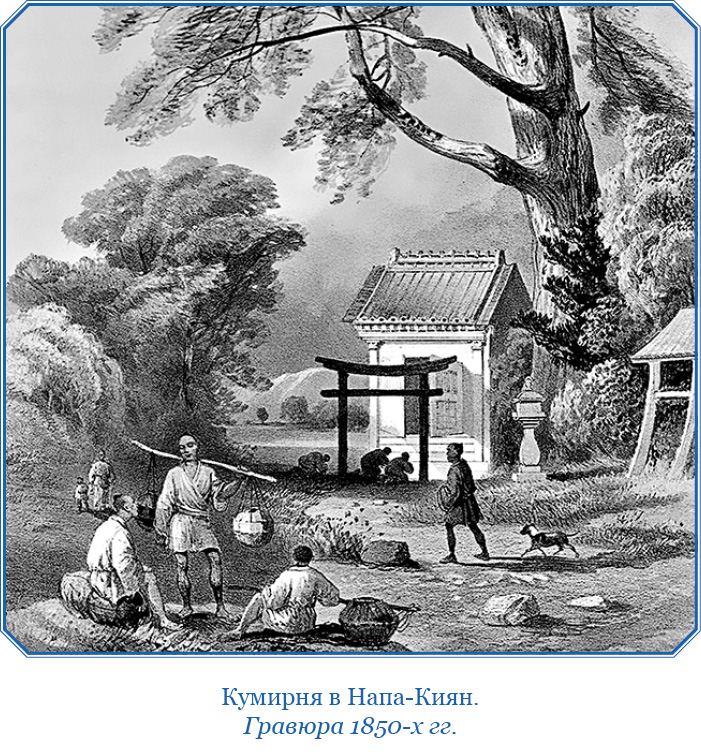
На другой день, 2 февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то не располагающее в его пользу. Он восемь лет живет на Лю-чу и в мае отправляется в Англию печатать книги Св[ященного] Писания на ликейском и японском языках. Жену и детей он уже отправил в Китай и сам отправится туда же с Перри, который обещал взять его с собою, лишь только другой миссионер приедет на смену.
Восемь лет на Лю-чу – это подвиг истинно христианский! Миссионер говорил по-английски, по-немецки и весьма плохо по-французски. Мы пустились в расспросы о жителях, о народонаселении, о промышленности, о нравах, обо всем.
– Что за место, что за жители! – говорили мы – Не веришь Базилю Галлю, а выходит на поверку, что он еще скромен.
– Да, место точно прекрасное, – сказал Беттельгейм, – надо еще осмотреть залив Мельвиль да один пункт на северной стороне – это рай.
– А жители? Какая простота нравов, гостеприимство! Странствуешь точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей, которые выходили путникам навстречу, угощали…
– Разве они встречали и угощали вас? – спросил пастор.
– Нет, встречали мало, больше провожали…
– Да, они действительно охотнее провожают, нежели встречают: ведь это полицейские, шпионы.
– Как полицейские? Разве здесь есть они?
– Как же! Чтоб наблюдать, куда вы пойдете, что будете делать, замечать, кто к вам подойдет, станет разговаривать, чтоб потом расправиться с тем по-своему…
– Что вы? возможно ли? Кажется, жители так кротки, простодушны, так приветливы: это видно из их поклонов…
– Боятся, так и приветливы. Если японцы стали вдруг приветливы, когда вы и американцы появились с большой силой, то как же не быть приветливыми ликейцам, которых всего от шестидесяти до восьмидесяти тысяч на острове!
– Мне нравятся простота и трудолюбие, – сказал я. – Есть же уголок в мире, который не нуждается ни в каком соседе, ни в какой помощи! Кажется, если б этим детям природы предоставлено было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца. Они умеренны, воздержны…
– Они точно простоваты, – заметил миссионер, – но насчет воздержания… нельзя сказать: они сильно пьют.
– Пьют! что вы? помилуйте, – защищали мы с жаром (нам очень хотелось отстоять идиллию и мечту о золотом веке), – у них и вина нет: что им пить?
– А саки? – отвечал Беттельгейм – Оно здесь лучше, нежели в Японии, и крепкое, как ром.
– Пьют! – говорил я в недоумении.
– И играют, – прибавил пастор.
– Нет, уж это слишком! ужели в самом деле? Да во что же: в какие-нибудь невинные игры: борются, бегают, как древние на олимпийских играх…
– Нет, нет! – настойчиво твердил Беттельгейм – Играют в азартные игры…
– Скажите, пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы – шпионы, картежники, пьяницы! Кто бы это подумал!
– Да, у них есть что-то вроде карт, – сказал он, – даже нищие, и те играют как-то стружками или щепками и проигрываются дотла.
– Вот тебе и идиллия, и золотой век, и «Одиссея»! Да у кого они переняли? – хотел было я спросить, но вспомнил, что есть у кого перенять: они просвещение заимствуют из Китая, а там, на базаре, я видел непроходимую кучу народа, толпившегося около другой кучи сидевших на полу игроков, которые кидали, помнится, кости. Каждый ставил деньги; один счастливый загребал потом у всех. Игра начиналась снова; игроки так углубились в свое дело, что не замечали зрителей, и зрители, в свою очередь, не замечали игроков и следили за костями. Вспомнил я еще, что недалеко от ликейцев – Манила, что там проматываются на пари за бои петухов; что еще на некоторых островах Тихого океана страсть к игре свирепствует, как в любом европейском клубе.
– Удивительно, – сказал я, – что такие кроткие люди заражены самою задорною из страстей!
– Нельзя сказать, чтоб они были кротки, – заметил пастор, – здесь жили католические миссионеры: жители преследовали их, и недавно еще они… поколотили одного миссионера, некатолического…
– Кого же это?
– Меня, – кротко и скромно отвечал Беттельгейм (но под этой скромностью таилось, кажется, не смирение). – Потом, – продолжал он, – уж постоянно стали заходить сюда корабли христианских наций, и именно от английского правительства разрешено раз в год посылать одно военное судно, с китайской станции, на Лю-чу наблюдать, как поступают с нами, и вот жители кланяются теперь в пояс. Они невежественны, грязны, грубы…
Мне стало подозрительно это поголовное порицание бедных ликейцев. Наши сказывали, что когда они спрашивали ликейцев, где живет миссионер, то последние обнаружили знаки явного нерасположения к нему, и один по-английски сказал про него: «Bad man, very bad man!» («Дурной, очень дурной человек!»).
Платя за нерасположение нерасположением, что было не совсем по-христиански, пастор, может быть, немного преувеличивал миниатюрные пороки этих пигмеев. Они действительно неласковы были всегда к миссионерам. Несколько лет назад здесь поселились два католических монаха. Жители, не зная их звания, обходились с ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но узнав, кто они, стали чуждаться их. Они не оскорбляли их, напротив, кланялись им; но лишь только те открывали рот, чтоб заговорить о религии, ликейцы зажимали уши и бежали прочь. Так те, не успев ни в чем, и уехали на французском военном судне, под командою, кажется, адмирала Сесиля, назад, в Китай.
Беттельгейм, однако ж, сказывал, что он беспрепятственно проповедует ликейцам в их домах, и будто они слушают его. Сомневаюсь, судя по тому, как с ним здесь поступают. Он говорит даже, что ему удалось несколько человек крестить.
– Я бы успел и больше, – заключил он, – если б не мешали японцы. Те ежегодно приезжают сюда на шестидесяти лодках, за данью и за товарами, а ликейцы посылают в Японию до шестнадцати. Японцы живут здесь подолгу и поддерживают в народе свою систему отчуждения от иностранцев и, между прочим, ненависть к христианам. И теперь их здесь до 600 человек. Они отрастили себе волосы, оделись в здешний костюм и прячутся, наблюдая и за жителями, и за иностранцами. Вы видите, что здесь всё японское: пришедшая оттуда религия, нравы, обычаи, даже письменный язык, наполовину, однако ж, с китайским. Одни и те же произведения почвы и та же промышленность. Они делают такие же материи, такие же лакированные вещи, только всё грубее и проще; едят то же самое, как те, – вся японская жизнь и сама Япония в миниатюре. Не верьте Базилю Галлю, – заключил он, отодвигая лежавшую перед ним книгу Галля, – в ней ни одного слова правды нет, всё диаметрально противоположно истине!
Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему: первого слишком ласково встречали, а другого… поколотили; от этого два разных голоса.
Я выразил ему только опасение, чтоб он и его преемники торопливостью не испортили всего дела. «Если Япония откроет свои порты для торговли всем нациям, – сказал я, – может быть, вы поспешите вместе с товарами послать туда и ваши переводы Нового завета. Предсказываю вам, что вы закроете опять Японию, ничего не сделаете для религии и испортите торговлю. Японцы осматривали до сих пор каждое судно, записывали каждую вещь, не в видах торгового соперничества, а чтоб не прокралась к ним христианская книга, крест – всё, что относится до религии; замечали число людей, чтоб не пробрался в Японию священник проповедовать религию, которой они так боятся. И долго еще не отступят они от этих строгостей, разве когда заменят свою жизнь европейскою. Вы лучше подождите, – заключил я, – когда учредятся европейские фактории, которые, конечно, выговорят себе право отправлять дома богослужение, и вы сначала везите священные книги и предметы в эти фактории, чего японцы par le temps qui court[96] запретить уже не могут, а от них исподволь, понемногу, перейдут они к японцам».
Пока мы рассуждали в каюте, на палубе сигнальщик объявил, что трехмачтовое судно идет. Все пошли вверх. С правой стороны, из-за острова, показалось большое купеческое судно, мчавшееся под всеми парусами прямо на риф.
Был туман и свежий ветер, потом пошел дождь. Однако ж мы в трубу рассмотрели, что судно было под английским флагом. Адмирал сейчас отправил навстречу к нему шлюпку и штурманского офицера отвести от мели. Часа через два корабль стоял уже близ нас на якоре.
Но что это у него на палубе? Ужаснейшая толпа народа, непроходимой кучей, как стадо баранов, жалась на палубе. Без справок можно было догадаться, что это эмигранты. Точно такое судно видели мы у острова Мадеры с эмигрантами, отправлявшимися в Австралию. Но откуда и куда их везут? Беттельгейм сказал, что, верно, тут же приехал другой миссионер, на смену ему, и поехал туда разведать. Через полчаса он вернулся с молодым человеком, лет 26, которого и представил адмиралу как своего преемника. Оба они обедали у нас. Вновь прибывший пастор, англичанин же, объявил, что судно пришло из Гонконга, употребив ровно месяц на этот переход, что идет оно в Сан-Франциско с пятьюстами китайцев, мужчин и женщин. Кого и чего нет теперь в Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг.
После обеда наши уехали на берег чай пить in’s Gr?ne[97]. Я прозевал, но зато из привезенной с английского корабля газеты узнал много новостей из Европы, особенно интересных для нас. Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают интриговать против нас[98]. Вся Европа в трепетном ожидании…
Часов в семь за мной прислали шлюпку. Уж было темно. Застав наших на мысе, около рощи, у костра, я рассказал им наскоро новости и сам пошел по тропинке к лесу, оставив их рассуждать. Хорошо! Я наслаждался неизвестными вам впечатлениями, светлым сумраком лунной, томной и теплой ночи, шелестом листьев рощи, полной мрака. Банианы, пальмы и другие чужеземцы шумели при тихом ветре иначе, нежели наши березы и осины, мягче, на чужом языке; и лягушки квакали по-другому, крепче наших, как кастаньеты. Вблизи плескал прилив, вдали глухо ревели буруны на рифах. До меня доносился живой говор товарищей. Меня позвали ехать, я поспешил на зов и в темноте наткнулся на кучку ликейцев, которые из-за шалаша наблюдали за нашими. Они вдруг низко поклонились и, не разгибаясь, дали мне пройти.
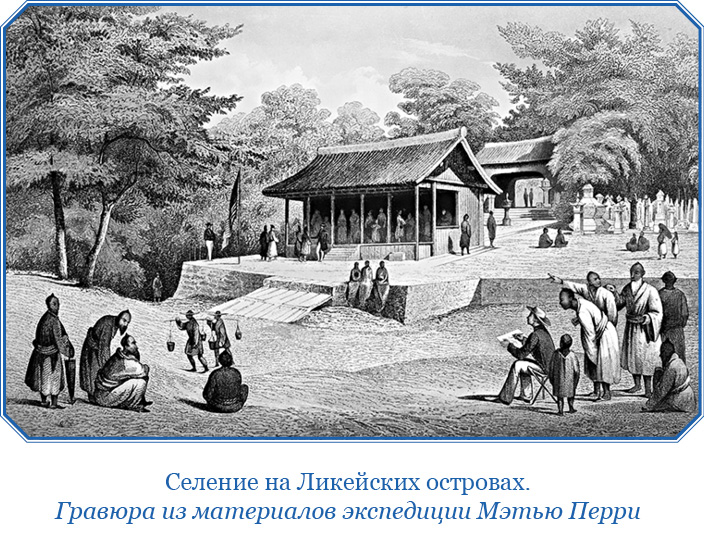
На другой день мы отправились на берег с визитами, сначала к американским офицерам, которые заняли для себя и для матросов – не знаю как, посредством ли покупки или просто «покровительства», – препорядочный домик и большой огород с сладким картофелем, таро, горохом и табаком. Я не пошел к ним, а отправился по берегу моря, по отмели, влез на холм, пробрался в грот, где расположились бивуаком матросы с наших судов, потом посетил в лесу нашу идиллию: матрос Кормчин пас там овец. Везде, даже в лесу, видел я каменные постройки, заборы, плетни и хижины с огородами и полями. Всё обработано, всюду протоптаны чистые дорожки или сделаны каменные тропинки.
Остров, судя по пространству, очень заселен; он длиной верст восемьдесят, а шириной от шести до пятнадцати и восемнадцати верст: и на этом пространстве живет от шестидесяти до семидесяти тысяч. В Напе, говорил миссионер, до двадцати, и в Чуди столько же тысяч жителей.
Я дождался наших на мосту, ведущем в Напу, и мы пошли в город искать миссионеров.
Там то же почти, что и в Чуди: длинные, загороженные каменными, массивными заборами улицы с густыми, прекрасными деревьями: так что идешь по аллеям. У ворот домов стоят жители. Они, кажется, немного перестали бояться нас, видя, что мы ничего худого им не делаем. В городе, при таком большом народонаселении, было живое движение. Много народа толпилось, ходило взад и вперед; носили тяжести, и довольно большие, особенно женщины. У некоторых были дети за спиной или за пазухой.
Мы не знали, в которую сторону идти: улиц множество и переулков тоже. С нами толпа народа; спрашиваем по-английски, называем миссионера по имени – жители указывают на ухо и мотают головой: «Глухи, дескать, не слышим». Некоторые, при наших вопросах, переговорят между собою, и вот один пойдет вперед и выведет нас к морю. Опять толки, и опять явится провожатый. Один водил, водил по грязи, наконец повел в перелесок, в густую траву, по тропинке, совсем спрятавшейся среди кактусов и других кустов, и вывел на холм, к кладбищу, к тем огромным камням, которые мы видели с моря и приняли сначала за город. Меня зло взяло.
– Ну теперь вижу, что вы пьяницы и картежники… – ворчал я на ликейцев.
– Да и мошенники уж кстати, – прибавил другой товарищ, – ведь они нарочно водят нас.
Третий товарищ смеялся, слыша наш ропот. Наконец один ликеец привел нас вторично к морю, на отмель, и ушел, как и прочие, в толпу. Тогда мы насильно вывели одного из толпы за руки и послали вперед показывать дорогу. Делать было нечего. Он привел нас к серой, нависшей над водой скале и указал на зеленый, бывший рядом с ней холм и тропинку в кустах. «Опять вверх!» – ворчали мы, теряя терпение, и пошли на холм, подошли к протестантской церкви, потом спустились с холма и очутились у сада и домика миссионеров. Оказалось, что мы блуждали всё время около этого места. На нас бросились лаять две большие собаки, лишь только мы вошли в садик.
Миссионер встретил нас на крыльце и ввел в такую же комнату с рамой, заклеенной бумагой, как и в ликейских домах. Тут мы застали шкипера вновь прибывшего английского корабля с женой, страдающей зубной болью женщиной, но еще молодой и некрасивой; тут же была жена нового миссионера, тоже молодая и некрасивая, без передних зубов. В одном только кабинете пастора, наполненном книгами и рукописями, были два небольших окна со стеклами, подаренными ему, кажется, человеком Соединенных Штатов. Над дверью был другой подарок, от него же: большая серебряная ваза. Всё остальное было более, нежели просто: грубый, деревянный стол, такие же стулья и диван – не лучше их.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Сочинение по тексту:
Владимир Алексеевич Солоухин — русский писатель и поэт, видный представитель «деревенской прозы» в своём тексте рассуждает о проблеме взаимоотношений человека и природы.
Автор рассказывает о том, как он, отправляясь на рыбалку, попал в чудесную страну. Больше всего его впечатлил рассвет. Несколько раз герой возвращается на это место, где встречаются речка Черная с рекой Колокшей, но не мог он вновь очутиться в этой стране.
В. А. Солоухин считает, что природа дарит человеку незабываемые ощущения, помогает ему почувствовать себя счастливым, обрести понимание того, что каждый момент жизни неповторим. Находясь на природе, человек учится искренне радоваться окружающему миру.
Я считаю, что человек и природа тесно связаны между собой. Многие художники, поэты, композиторы черпали вдохновение, находясь наедине с природой. Так, например, певец Руси — Сергей Есенин на протяжении всего своего творчества воспевал родные края. Природа была для него музой.
Будда и его последователи считали, что только воссоединившись с природой, они достигнут нирваны. Поэтому они оставляли свои семьи и уходили в лес.
Таким образом, я пришла к выводу, что каждый человек, умеющий наслаждаться природой, получает от этого удовольствие.
Текст В. А. Солоухина:
(1)Поездка в Олепин подарила мне незабываемые ощущения. (2)Утро застало меня не в постели, не в избе или городской квартире, а под стогом сена на берегу реки Колокши.
(3)Но не рыбалкой запомнилось мне утро этого дня. (4)Не первый раз я подходил к воде потемну, когда не разглядишь и поплавка на воде, едва-едва начинающие вбирать в себя самое первое, самое лёгкое посветление неба.
(5) Всё было как бы обыкновенным в то утро: и ловля окуней, на стаю которые я напал, и предрассветная зябкость, поднимающаяся от реки, и все неповторимые запахи, которые возникают утром там, где есть вода, осока, крапива, мята, луговые цветы и горькая ива.
(6) И всё же утро было необыкновенное. (7)Алые облака, округлые, как бы Tут надутые, плыли по небу с торжественностью и медленностью лебедей. (8)Аль облака плыли и по реке, окрашивая цветом своим не только воду, не только лёгки парок над водой, но и широкие глянцевые листья кувшинок. (9)Белые свежие цвет] водяных лилий были как розы в свете горящего утра. (Ю)Капли красной росы падал с наклонившейся ивы в воду, распространяя красные, с чёрной тенью, круги.
(11)Старик рыболов прошёл по лугам, и в руке у него красным огнём полыхал крупная пойманная рыба. (12)Стога сена, копны, дерево, растущее поодал! перелесок, шалаш старика — всё виделось особенно выпукло, ярко, как если бы произошло что-то с нашим зрением, а не игра великого солнца была причине необыкновенности утра. (13)Пламя костра, такое яркое ночью, было почти незаметно теперь, и бледность его ещё больше подчёркивала ослепительность утреннего сверкания. (14)Таким навсегда мне и запомнились те места по берег Колокши, где прошла наша утренняя заря.
(15)Когда, наевшись ухи и уснув снова, обласканные взошедшим солнце! и выспавшиеся, мы проснулись часа три-четыре спустя, невозможно было узнать: окрестностей. (16)Поднявшееся в зенит солнце убрало с земли все тени. (17)Пропал: контурность, выпуклость земных предметов, подевалась куда-то и свежая прохлада и горение росы, и сверкание её. (18)Луговые цветы померкли, вода потускнела а на небе вместо ярких и пышных облаков вуалью распространилась ровная белесоватая мгла. (19)Было впечатление, что несколько часов назад мы волшебным образом побывали в совершенно иной, чудесной стране, где и алые лилии, и красна! рыбина на веревке у старика, и травы переливаются огнями, и всё там яснее красивее, чётче, точь-в-точь как бывает в чудесных странах, куда попадает] единственно силой сказочного волшебства.
(20)Как же попасть опять в эту дивную алую страну? (21)Ведь сколько ни приезжай потом на место, где встречается речка Чёрная с рекой Колокшей и гд< за былинным холмом орут городищенские петухи, не проникнешь, куда желаешь как если бы забыл всесильное магическое слово, раздвигающее леса и горы.
По. В. А. Солоухину
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
(1)Ликейские острова… (2)Да, это гармония среди бесконечных вод Тихого океана.
(3)Настоящая сказка: дерево к дереву, листок к листку, не смешаны в неумышленном хаосе, как обыкновенно делает природа. (4)Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.
(5)Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. (6)Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окружённые каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. (7)Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. (8)В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. (9)Ещё издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. (10)Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. (11)3а них боязливо прятались дети.
(12)Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не тёплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых. (13)Дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. (14)Это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. (15)3десь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. (16)Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. (17)3десь, быть может, ещё возможен золотой век.
(18)Лес как сад, как парк царя или вельможи. (19)Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берёт обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя её величия. (20)Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трёх стенках из тонкого дерева, заплетённого бамбуком; четвёртой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стёкол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. (21)Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьём, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… (22) «Кто учил этих детей природы строить? — невольно спросишь себя». (23)3десь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.
(24)Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. (25)Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели.
(26)Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. (27)Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. (28)Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. (29)В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. (30)Книг, пороху и другого подобного разврата нет. (31)Посмотрим, что будет дальше. (32)Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?
(33)Тронет, и уж тронула. (34)Американцы, или люди Соединённых Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под своё покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. (35)Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединённых Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.
(По И.А. Гончарову)
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».
Сочинение: Иван Александрович Гончаров
(1812-1891)
Ю.В.Лебедев
О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова.
По складу своего характера Иван Александрович Гончаров далеко не похож на людей, которых рождали энергичные и деятельные 60-е годы XIX века. В его биографии много необычного для этой эпохи, в условиях 60-х годов она — сплошной парадокс. Гончарова как будто не коснулась борьба партий, не затронули различные течения бурной общественной жизни. Он родился 6(18) июня 1812 года в Симбирске, в купеческой семье. Закончив Московское коммерческое училище, а затем словесное отделение философского факультета Московского университета, он вскоре определился на чиновничью службу в Петербурге и служил честно и беспристрастно фактически всю свою жизнь. Человек медлительный и флегматичный, Гончаров и литературную известность обрел не скоро. Первый его роман «Обыкновенная история» увидел свет, когда автору было уже 35 лет. У Гончарова-художника был необычный для того времени дар — спокойствие и уравновешенность. Это отличает его от писателей середины и второй половины XIX века, одержимых духовными порывами, захваченных общественными страстями. Достоевский увлечен человеческими страданиями и поиском мировой гармонии, Толстой — жаждой истины и созданием нового вероучения, Тургенев опьянен прекрасными мгновениями быстротекущей жизни. Напряженность, сосредоточенность, импульсивность — типичные свойства писательских дарований второй половины XIX века. А у Гончарова на первом плане — трезвость, уравновешенность, простота.
Лишь один раз Гончаров удивил современников. В 1852 году по Петербургу разнесся слух, что этот человек де-Лень — ироническое прозвище, данное ему приятелями,- собрался в кругосветное плавание. Никто не поверил, но вскоре слух подтвердился. Гончаров действительно стал участником кругосветного путешествия на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции вице-адмирала Е. В. Путятина. Но и во время путешествия он сохранял привычки домоседа.
В Индийском океане, близ мыса Доброй Надежды, фрегат попал в шторм: «Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой — нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи, но не удалось…
Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.
— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.
— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье».
«Да и зачем оно, это дикое грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод… Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны и страшны… они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь…»
Гончарову дорога милая его сердцу равнина, благословленная им на вечную жизнь Обломовка. «Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод».
В гончаровском недоверии к бурным переменам и стремительным порывам заявляла о себе определенная писательская позиция. Не без основательного подозрения относился Гончаров к начавшейся в 50-60-е годы ломке всех старых устоев патриархальной России. В столкновении патриархального уклада с нарождающимся буржуазным Гончаров усматривал не только исторический прогресс, но и утрату многих вечных ценностей. Острое чувство нравственных потерь, подстерегавших человечество на путях «машинной» цивилизации, заставляло его с любовью вглядываться в то прошлое, что Россия теряла. Многое в этом прошлом Гончаров не принимал: косность и застой, страх перемен, вялость и бездействие. Но одновременно старая Россия привлекала его теплотой и сердечностью отношений между людьми, уважением к национальным традициям, гармонией ума и сердца, чувства и воли, духовным союзом человека с природой. Неужели все это обречено на слом? И нельзя ли найти более гармоничный путь прогресса, свободный от эгоизма и самодовольства, от рационализма и расчетливости? Как сделать, чтобы новое в своем развитии не отрицало старое с порога, а органически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в себе? Эти вопросы волновали Гончарова на протяжении всей жизни и определяли существо его художественного таланта.
Художника должны интересовать в жизни устойчивые формы, не подверженные веяниям капризных общественных ветров. Дело истинного писателя — создание устойчивых типов, которые слагаются «из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц». Эти наслоения «учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю».
Не в этом ли секрет загадочной, на первый взгляд, медлительности Гончарова-художника? За всю свою жизнь он написал всего лишь три романа, в которых развивал и углублял один и тот же конфликт между двумя укладами русской жизни, патриархальным и буржуазным, между героями, выращенными двумя этими укладами. Причем работа над каждым из романов занимала у Гончарова не менее десяти лет. «Обыкновенную историю» он опубликовал в 1847 году, роман «Обломов» в 1859, а «Обрыв» в 1869 году.
Верный своему идеалу, он вынужден долго и пристально всматриваться в жизнь, в ее текущие, быстро меняющиеся формы; вынужден исписать горы бумаги, заготовить массу черновиков, прежде чем в переменчивом потоке русской жизни ему не откроется нечто устойчивое, знакомое и повторяющееся. «Творчество,- утверждал Гончаров,- может являться только тогда, когда жизнь установится; с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит», потому что едва народившиеся явления туманны и неустойчивы. «Они еще не типы, а молодые месяцы, из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним как к определенным и ясным, следовательно, и доступным творчеству образам».
Уже Белинский в отклике на роман «Обыкновенная история» отметил, что в таланте Гончарова главную роль играет «изящность и тонкость кисти», «верность рисунка», преобладание художественного изображения над прямой авторской мыслью и приговором. Но классическую характеристику особенностям таланта Гончарова дал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Он подметил три характерных признака писательской манеры Гончарова.
Есть писатели, которые сами берут на себя труд объяснения с читателем и на протяжении всего рассказа поучают и направляют его. Гончаров, напротив, доверяет читателю и не дает от себя никаких готовых выводов: он изображает жизнь такою, какой ее видит как художник, и не пускается в отвлеченную философию и нравоучения.
Вторая особенность Гончарова заключается в умении создавать полный образ предмета. Писатель не увлекается какой-либо одной стороной его, забывая об остальных. Он «вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления».
Наконец, своеобразие Гончарова-писателя Добролюбов видит в спокойном, неторопливом повествовании, стремящемся к максимально возможной объективности, к полноте непосредственного изображения жизни.
Эти три особенности в совокупности позволяют Добролюбову назвать талант Гончарова объективным талантом.
Роман «Обыкновенная история».
Первый роман Гончарова «Обыкновенная история» увидел свет на страницах журнала «Современник» в мартовском и апрельском номерах за 1847 год. В центре романа столкновение двух характеров, двух философий жизни, выпестованных на почве двух общественных укладов: патриархального, деревенского (Александр Адуев) и буржуазно-делового, столичного (его дядюшка Петр Адуев). Александр Адуев — юноша, только что закончивший университет, исполненный возвышенных надежд на вечную любовь, на поэтические успехи (как большинство юношей, он пишет стихи), на славу выдающегося общественного деятеля. Эти надежды зовут его из патриархальной усадьбы Грачи в Петербург. Покидая деревню, он клянется в вечной верности соседской девушке Софье, обещает дружбу до гробовой доски университетскому приятелю Поспелову.
Романтическая мечтательность Александра Адуева сродни герою романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Владимиру Ленскому. Но романтизм Александра, в отличие от Ленского, вывезен не из Германии, а выращен здесь, в России. Этот романтизм питает многое. Во-первых, далекая от жизни университетская московская наука. Во-вторых, юность с ее широкими, зовущими вдаль горизонтами, с ее душевным нетерпением и максимализмом. Наконец, эта мечтательность связана с русской провинцией, со старорусским патриархальным укладом. В Александре многое идет от наивной доверчивости, свойственной провинциалу. Он готов видеть друга в каждом встречном, он привык встречать глаза людей, излучающие человеческое тепло и участие. Эти мечты наивного провинциала подвергаются суровому испытанию столичной, петербургской жизнью.
«Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна… С кем ни встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет… А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою… Он посмотрел на домы — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою».
Провинциал верит в добрые родственные чувства. Он думает, что и столичные родственники примут его с распростертыми объятиями, как принято в деревенском усадебном быту. Не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить. А он «расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы: все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню».
Но и тут молодого романтика-провинциала ждет урок. «Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают… Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно».
Именно так встречает восторженного Александра деловой петербургский дядюшка Петр Адуев. На первый взгляд он выгодно отличается от племянника отсутствием неумеренной восторженности, умением трезво и деловито смотреть на вещи. Но постепенно читатель начинает замечать в этой трезвости сухость и расчетливость, деловой эгоизм бескрылого человека. С каким-то неприятным, демоническим удовольствием Петр Адуев «отрезвляет» молодого человека. Он безжалостен к юной душе, к ее прекрасным порывам. Стихи Александра он употребляет на оклейку стен в кабинете, подаренный любимой Софьей талисман с локоном ее волос — «вещественный знак невещественных отношений» — ловко швыряет в форточку, вместо стихов предлагает перевод агрономических статей о навозе, вместо серьезной государственной деятельности определяет племянника чиновником, занятым перепискою деловых бумаг. Под влиянием дядюшки, под воздействием отрезвляющих впечатлений делового, чиновничьего Петербурга разрушаются романтические иллюзии Александра. Гибнут надежды на вечную любовь. Если в романе с Наденькой герой еще романтический влюбленный, то в истории с Юлией он уже скучающий любовник, а с Лизой — просто соблазнитель. Увядают идеалы вечной дружбы. Разбиваются вдребезги мечты о славе поэта и государственного деятеля: «Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем все стоял и смотрел. „Точно завод моего дяди! — решил он наконец.- Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три,- смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу — мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг… И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей,- одни колеса да пружины…“
Белинский в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, высоко оценивая художественные достоинства Гончарова, увидел главный пафос романа в развенчании прекраснодушного романтика. Однако смысл конфликта племянника и дядюшки более глубок. Источник несчастий Александра не только в его отвлеченной, летящей поверх прозы жизни мечтательности. В разочарованиях героя не в меньшей, если не в большей степени повинен трезвый, бездушный практицизм столичной жизни, с которой сталкивается молодой и пылкий юноша. В романтизме Александра, наряду с книжными иллюзиями и провинциальной ограниченностью, есть и другая сторона: романтична любая юность. Его максимализм, его вера в безграничные возможности человека — еще и признак молодости, неизменный во все эпохи и все времена.
Петра Адуева не упрекнешь в мечтательности, в отрыве от жизни, но и его характер подвергается в романе не менее строгому суду. Этот суд произносится устами жены Петра Адуева Елизаветы Александровны. Она говорит о „неизменной дружбе“, „вечной любви“, „искренних излияниях“ — о тех ценностях, которых лишен Петр и о которых любил рассуждать Александр. Но теперь эти слова звучат далеко не иронически. Вина и беда дядюшки в его пренебрежении к тому, что является в жизни главным,- к духовным порывам, к цельным и гармоническим отношениям между людьми. А беда Александра оказывается не в том, что он верил в истину высоких целей жизни, а в том, что эту веру растерял.
В эпилоге романа герои меняются местами. Петр Адуев осознает ущербность своей жизни в тот момент, когда Александр, отбросив все романтические побуждения, становится на деловую и бескрылую дядюшкину стезю.
Где же истина? Вероятно, посередине: наивна оторванная от жизни мечтательность, но страшен и деловой, расчетливый прагматизм. Буржуазная проза лишается поэзии, в ней нет места высоким духовным порывам, нет места таким ценностям жизни, как любовь, дружба, преданность, вера в высшие нравственные побуждения. Между тем в истинной прозе жизни, как ее понимает Гончаров, таятся зерна высокой поэзии.
У Александра Адуева есть в романе спутник, слуга Евсей. Что дано одному — не дано другому. Александр прекраснодушно духовен, Евсей прозаически прост. Но их связь в романе не ограничивается контрастом высокой поэзии и презренной прозы. Она выявляет еще и другое: комизм оторвавшейся от жизни высокой поэзии и скрытую поэтичность повседневной прозы. Уже в начале романа, когда Александр перед отъездом в Петербург клянется в „вечной любви“ Софье, его слуга Евсей прощается с возлюбленной, ключницей Аграфеной. „Кто-то сядет на мое место?“ — промолвил он, все со вздохом. „Леший!“ — отрывисто от4)вечала она. „Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?“ — »Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда?» — со злостью заметила она. Евсей встал… «Матушка, Аграфена Ивановна!.. будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так… эх!..»
Проходит много лет. Полысевший и разочарованный Александр, растерявший в Петербурге романтические надежды, вместе со слугою Евсеем возвращается в усадьбу Грачи. «Евсей, подпоясанный ремнем, весь в пыли, здоровался с дворней; она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, он остановился, как окаменелый, и смотрел на нее молча, с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, исподлобья, но тотчас же невольно изменила себе: засмеялась от радости, потом заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась. „Что молчишь? — сказала она,- экой болван: и не здоровается!“
Устойчивая, неизменная привязанность существует у слуги Евсея и ключницы Аграфены. „Вечная любовь“ в грубоватом, народном варианте уже налицо. Здесь дается органический синтез поэзии и жизненной прозы, утраченный миром господ, в котором проза и поэзия разошлись и стали друг к другу во враждебные отношения. Именно народная тема романа несет в себе обещание возможности их синтеза в будущем.
Цикл очерков „Фрегат “Паллада».
Итогом кругосветного плавания Гончарова явилась книга очерков «Фрегат „Паллада“, в которой столкновение буржуазного и патриархального мироуклада получило дальнейшее, углубляющееся осмысление. Путь писателя лежал через Англию к многочисленным ее колониям в Тихом океане. От зрелой, промышленно развитой современной цивилизации — к наивно-восторженной патриархальной молодости человечества с ее верой в чудеса, с ее надеждами и сказочными грезами. В книге очерков Гончарова получила документальное подтверждение мысль русского поэта Е. А. Боратынского, художественно воплощенная в стихотворении 1835 года „Последний поэт“:
Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Возраст зрелости современной буржуазной Англии — это возраст деловитости и умного практицизма, хозяйственного освоения вещества земли. Любовное отношение к природе сменилось беспощадным покорением ее, торжеством фабрик, заводов, машин, дыма и пара. Все чудесное и таинственное вытеснилось приятным и полезным. Весь день англичанина расчислен и расписан: ни одной свободной минутки, ни одного лишнего движения — польза, выгода и экономия во всем.
Жизнь настолько запрограммирована, что действует, как машина. „Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин“.
Даже непроизвольный сердечный порыв — жалости, великодушия, симпатии — англичане стараются регулировать и контролировать. „Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются, как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести“.
Когда Гончаров охотно расстается с Англией — »этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти», в его воображении, по контрасту с механической жизнью англичанина, встает образ русского помещика. Он видит, как далеко в России, «в просторной комнате на трех перинах» спит человек, с головою укрывшийся от назойливых мух. Его не раз будила посланная от барыни Парашка, слуга в сапогах с гвоздями трижды входил и выходил, потрясая половицы. Солнце обжигало ему сначала темя, а потом висок. Наконец, под окнами раздался не звон механического будильника, а громкий голос деревенского петуха — и барин проснулся. Начались поиски слуги Егорки: куда-то исчез сапог и панталоны запропастились. Оказалось, что Егорка на рыбалке — послали за ним. Егорка вернулся с целой корзиной карасей, двумя сотнями раков и с дудочкой из камыша для барчонка. Нашелся сапог в углу, а панталоны висели на дровах, где их оставил впопыхах Егорка, призванный товарищами на рыбную ловлю. Барин не спеша напился чаю, позавтракал и стал изучать календарь, чтобы выяснить, какого святого нынче праздник, нет ли именинников среди соседей, коих надо поздравить. Несуетная, неспешная, совершенно свободная, ничем, кроме личных желаний, не регламентированная жизнь! Так появляется параллель между чужим и своим, и Гончаров замечает: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» Гораздо больше говорят сердцу русского писателя нравы Востока. Он воспринимает Азию как на тысячу миль распростертую Обломовку. Особенно поражают его воображение Ликейские острова: это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Здесь живут добродетельные люди, питающиеся одними овощами, живут патриархально, «толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов… Что это? где мы? Среди древних пастушеских народов, в золотом веке?» Это уцелевший клочок древнего мира, как изображали его Библия и Гомер. И люди здесь красивы, полны достоинства и благородства, с развитыми понятиями о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Они живут, как жили и две тысячи лет назад,- без перемены: просто, несложно, первобытно. И хотя такая идиллия человеку цивилизации не может не наскучить, почему-то в сердце после общения с нею появляется тоска. Пробуждается мечта о земле обетованной, зарождается укор современной цивилизации: кажется, что люди могут жить иначе, свято и безгрешно. В ту ли сторону пошел современный европейский и американский мир с его техническим прогрессом? Приведет ли человечество к блаженству упорное насилие, которое оно творит над природой и душой человека? А что если прогресс возможен на иных, более гуманных основах, не в борьбе, а в родстве и союзе с природой?
Далеко не наивны вопросы Гончарова, острота их нарастает тем более, чем драматичнее оказываются последствия разрушительного воздействия европейской цивилизации на патриархальный мир. Вторжение в Шанхай англичан Гончаров определяет как «нашествие рыжих варваров». Их бесстыдство «доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд!». Культ наживы, расчета, корысти ради сытости, удобства и комфорта… Разве не унижает человека эта мизерная цель, которую европейский прогресс начертал на своих знаменах?
Не простые вопросы задает Гончаров человеку. С развитием цивилизации они нисколько не смягчились. Напротив, в конце XX века они приобрели угрожающую остроту. Совершенно очевидно, что технический прогресс с его хищным отношением к природе подвел человечество к роковому рубежу: или нравственное самосовершенствование и смена технологий в общении с природой — или гибель всего живого на земле.
Роман «Обломов».
С 1847 года обдумывал Гончаров горизонты нового романа: эта дума ощутима и в очерках «Фрегат „Паллада“, где он сталкивает тип делового и практичного англичанина с русским помещиком, живущим в патриархальной Обломовке. Да и в „Обыкновенной истории“ такое столкновение двигало сюжет. Не случайно Гончаров однажды признался, что в „Обыкновенной истории“, „Обломове“ и „Обрыве“ видит он не три романа, а один. Работу над „Обломовым“ писатель завершил в 1858 году и опубликовал в первых четырех номерах журнала „Отечественные записки“ за 1859 год.
Добролюбов о романе.
»Обломов» встретил единодушное признание, но мнения о смысле романа резко разделились. Н. А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» увидел в «Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Илья Ильич Обломов — «коренной народный наш тип», символизирующий лень, бездействие и застой всей крепостнической системы отношений. Он — последний в ряду «лишних людей» — Онегиных, Печориных, Бельтовых и Рудиных. Подобно своим старшим предшественникам, Обломов заражен коренным противоречием между словом и делом, мечтательностью и практической никчемностью. Но в Обломове типичный комплекс «лишнего человека» доведен до парадокса, до логического конца, за которым — распад и гибель человека. Гончаров, по мнению Добролюбова, глубже всех своих предшественников вскрывает корни обломовского бездействия.
В романе обнажается сложная взаимосвязь рабства и барства. «Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура,- пишет Добролюбов.- Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других,- развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-то границу… Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере — чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится…»
Но потому и слуга Захар в известном смысле «барин» над своим господином: полная зависимость от него Обломова дает возможность и Захару спокойно спать на своей лежанке. Идеал существования Ильи Ильича — «праздность и покой» — является в такой же мере вожделенной мечтою и Захара. Оба они, господин и слуга,- дети Обломовки.
«Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней». У господского дома тоже с незапамятных времен обвалилась галерея, и крыльцо давно собирались починить, но до сих пор не починили.
«Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы — наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам,- заключает Добролюбов.- В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово».
«Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности,- я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он — Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он — Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали,- я думаю, что это все пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,- я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку»,- пишет Добролюбов.
Дружинин о романе.
Так сложилась и окрепла одна точка зрения на роман Гончарова «Обломов», на истоки характера главного героя. Но уже среди первых критических откликов появилась иная, противоположная оценка романа. Она принадлежит либеральному критику А. В. Дружинину, написавшему статью «Обломов», роман Гончарова».
Дружинин тоже полагает, что характер Ильи Ильича отражает существенные стороны русской жизни, что «Обломова» изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиною». Но, по мнению Дружинина, «напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви».
«Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова». В чем же видит Дружинин преимущества Обломова и обломовщины? «Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей перед практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых…»
Дружининский подход к осмыслению Обломова и обломовщины не стал популярным в XIX веке. С энтузиазмом большинством была принята добролюбовская трактовка романа. Однако, по мере того как восприятие «Обломова» углублялось, открывая читателю новые и новые грани своего содержания, дружининская статья стала привлекать внимание. Уже в советское время М. М. Пришвин записал в дневнике: «Обломов». В этом романе внутренне прославляется русская лень и внешне она же порицается изображением мертво-деятельных людей (Ольга и Штольц). Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Это своего рода толстовское «неделание». Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлено обломовскому покою».
Полнота и сложность характера Обломова. В свете этих диаметрально противоположных трактовок Обломова и обломовщины присмотримся внимательно к тексту очень сложного и многослойного содержания гончаровского романа, в котором явления жизни «вертятся со всех сторон». Первая часть романа посвящена одному обычному дню жизни Ильи Ильича. Жизнь эта ограничена пределами одной комнаты, в которой лежит и спит Обломов. Внешне здесь происходит очень мало событий. Но картина полна движения. Во-первых, беспрестанно изменяется душевное состояние героя, комическое сливается с трагическим, беспечность с внутренним мучением и борьбой, сон и апатия с пробуждением и игрою чувств. Во-вторых, Гончаров с пластической виртуозностью угадывает в предметах домашнего быта, окружающих Обломова, характер их хозяина. Тут он идет по стопам Гоголя. Автор подробно описывает кабинет Обломова. На всех вещах — заброшенность, следы запустения: валяется прошлогодняя газета, на зеркалах слой пыли, если бы кто-нибудь решился обмакнуть перо в чернильницу — оттуда вылетела бы муха. Характер Ильи Ильича угадан даже через его туфли, длинные, мягкие и широкие. Когда хозяин не глядя опускал с постели ноги на пол, он непременно попадал в них сразу. Когда во второй части романа Андрей Штольц пытается пробудить героя к деятельной жизни, в душе Обломова царит смятение, и автор передает это через разлад его с привычными вещами. «Теперь или никогда!», «Быть или не быть!» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».
Символичен также образ халата в романе и целая история отношений к нему Ильи Ильича. Халат у Обломова особенный, восточный, «без малейшего намека на Европу». Он как послушный раб повинуется самомалейшему движению тела его хозяина. Когда любовь к Ольге Ильинской пробуждает героя на время к деятельной жизни, его решимость связывается с халатом: «Это значит,- думает Обломов,- вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума…» Но в момент заката любви, подобно зловещему предзнаменованию, мелькает в романе угрожающий образ халата. Новая хозяйка Обломова Агафья Матвеевна Пшеницына сообщает, что она достала халат из чулана и собирается помыть его и почистить.
Связь внутренних переживаний Обломова с принадлежащими ему вещами создает в романе комический эффект. Не что-либо значительное, а туфли и халат характеризуют его внутреннюю борьбу. Обнаруживается застарелая привычка героя к покойной обломовской жизни, его привязанность к бытовым вещам и зависимость от них. Но здесь Гончаров не оригинален. Он подхватывает и развивает известный нам по «Мертвым душам» гоголевский прием овеществления человека. Вспомним, например, описания кабинетов Манилова и Собакевича.
Особенность гончаровского героя заключается в том, что его характер этим никак не исчерпывается и не ограничивается. Наряду с бытовым окружением в действие романа включаются гораздо более широкие связи, оказывающие воздействие на Илью Ильича. Само понятие среды, формирующей человеческий характер, у Гончарова безмерно расширяется. Уже в первой части романа Обломов не только комический герой: за юмористическими эпизодами проскальзывают иные, глубоко драматические начала. Гончаров использует внутренние монологи героя, из которых мы узнаем, что Обломов — живой и сложный человек. Он погружается в юношеские воспоминания, в нем шевелятся упреки за бездарно прожитую жизнь. Обломов стыдится собственного барства, как личность, возвышается над ним. Перед героем встает мучительный вопрос: «Отчего я такой?» Ответ на него содержится в знаменитом «Сне Обломова». Здесь раскрыты обстоятельства, оказавшие влияние на характер Ильи Ильича в детстве и юности. Живая, поэтическая картина Обломовки — часть души самого героя. В нее входит российское барство, хотя барством Обломовка далеко не исчерпывается. В понятие «обломовщина» входит целый патриархальный уклад русской жизни не только с отрицательными, но и с глубоко поэтическими его сторонами.
На широкий и мягкий характер Ильи Ильича оказала влияние среднерусская природа с мягкими очертаниями отлогих холмов, с медленным, неторопливым течением равнинных рек, которые то разливаются в широкие пруды, то стремятся быстрой нитью, то чуть-чуть ползут по камушкам, будто задумавшись. Эта природа, чуждающаяся «дикого и грандиозного», сулит человеку покойную и долговременную жизнь и незаметную, сну подобную смерть. Природа здесь, как ласковая мать, заботится о тишине, размеренном спокойствии всей жизни человека. И с нею заодно особый «лад» крестьянской жизни с ритмичной чередой будней и праздников. И даже грозы не страшны, а благотворны там: они «бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе». Ни страшных бурь, ни разрушений не бывает в том краю. Печать неторопливой сдержанности лежит и на характерах людей, взращенных русской матерью-природой.
Под стать природе и создания поэтической фантазии народа. «Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать ни пером описать».
В состав «обломовщины» входит у Гончарова безграничная любовь и ласка, которыми с детства окружен и взлелеян Илья Ильич. «Мать осыпала его страстными поцелуями», смотрела «жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, не болит ли что-нибудь, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару».
Сюда же входит и поэзия деревенского уединения, и картины щедрого русского хлебосольства с исполинским пирогом, и гомерическое веселье, и красота крестьянских праздников под звуки балалайки… Отнюдь не только рабство да барство формируют характер Ильи Ильича. Есть в нем что-то от сказочного Иванушки, мудрого ленивца, с недоверием относящегося ко всему расчетливому, активному и наступательному. Пусть суетятся, строят планы, снуют и толкутся, начальствуют и лакействуют другие. А он живет спокойно и несуетно, подобно былинному герою Илье Муромцу, сиднем сидит тридцать лет и три года.
Вот являются к нему в петербургском современном обличье «калики перехожие», зовут его в странствие по морю житейскому. И тут мы вдруг невольно чувствуем, что симпатии наши на стороне «ленивого» Ильи Ильича. Чем соблазняет Обломова петербургская жизнь, куда зовут его приятели? Столичный франт Волков сулит ему светский успех, чиновник Судьбинский — бюрократическую карьеру, литератор Пенкин — пошлое литературное обличительство.
«Увяз, любезный друг, по уши увяз,- сетует Обломов на судьбу чиновника Судьбинского.- И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… А как мало тут человека-то нужно: ума его, золи, чувства,- зачем это?»
«Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? — обличает Обломов пустоту светской суеты Волкова.-… Да в десять мест в один день — несчастный!» — заключает он, «перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой».
В жизни деловых людей Обломов не видит поприща, отвечающего высшему назначению человека. Так не лучше ли оставаться обломовцем, но сохранить в себе человечность и доброту сердца, чем быть суетным карьеристом, деятельным Обломовым, черствым и бессердечным? Вот приятель Обломова Андрей Штольц поднял-таки лежебоку с дивана, и Обломов какое-то время предается той жизни, в которую с головой уходит Штольц.
«Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты.- „Целые дни,- ворчал Обломов, надевая халат,- не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь!“ — продолжал он, ложась на диван.
»Какая же тебе нравится?» — спросил Штольц.- «Не такая, как здесь».- «Что ж здесь именно так не понравилось?» — «Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядыванье с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице; только и слышишь: „Этому дали то, тот получил аренду“.- „Помилуйте, за что?“ — кричит кто-нибудь. „Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!“ Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?»
Обломов лежит на диване не только потому, что как барин может ничего не делать, но и потому, что как человек он не желает жить в ущерб своему нравственному достоинству. Его «ничегонеделание» воспринимается в романе еще и как отрицание бюрократизма, светской суеты и буржуазного делячества. Лень и бездеятельность Обломова вызваны резко отрицательным и справедливо скептическим отношением его к жизни и интересам современных практически-деятельных людей.
Андрей Штольц как антипод Обломова. Обломову противопоставлен в романе Андрей Штольц. Первоначально он мыслился Гончаровым как положительный герой, достойный антипод Обломову. Автор мечтал, что со временем много «Штольцев явится под русскими именами». Он пытался соединить в Штольце немецкое трудолюбие, расчетливость и пунктуальность с русской мечтательностью и мягкостью, с философическими раздумьями о высоком предназначении человека. Отец у Штольца — деловитый бюргер, а мать — русская дворянка. Но синтеза немецкой практичности и русской душевной широты у Гончарова не получилось. Положительные качества, идущие от матери, в Штольце только декларированы: в плоть художественного образа они так и не вошли. В Штольце ум преобладает над сердцем. Это натура рациональная, подчиняющая логическому контролю даже самые интимные чувства и с недоверием относящаяся к поэзии свободных чувств и страстей. В отличие от Обломова, Штольц — энергичный, деятельный человек. Но каково же содержание его деятельности? Какие идеалы вдохновляют Штольца на упорный, постоянный труд? По мере развития романа читатель убеждается, что никаких широких идеалов у героя нет, что практика его направлена на личное преуспеяние и мещанский комфорт.
Обломов и Ольга Ильинская.
И в то же время за русским типом буржуа проглядывает в Штольце образ Мефистофеля. Как Мефистофель Фаусту, Штольц в виде искушения «подсовывает» Обломову Ольгу Ильинскую. Еще до знакомства ее с Обломовым Штольц обговаривает условия такого «розыгрыша». Перед Ольгой ставится задача — поднять с кровати лежебоку Обломова и вытащить его в большой свет. Если чувства Обломова к Ольге искренни и безыскусственны, то в чувствах Ольги ощутим последовательный расчет. Даже в минуты увлечения она не забывает о своей высокой миссии: «ей нравилась эта роль путеводной звезды, луча света, который она разольет над стоячим озером и отразится в нем». Выходит, Ольга любит в Обломове не самого Обломова, а свое собственное отражение. Для нее Обломов — «какая-то Галатея, с которой ей самой приходилось быть Пигмалионом». Но что же предлагает Ольга Обломову взамен его лежания на диване? Какой свет, какой лучезарный идеал? Увы, программу пробуждения Обломова в умненькой головке Ольги вполне исчерпывает штольцевский горизонт: читать газеты, хлопотать по устройству имения, ехать в приказ. Все то же, что советует Обломову и Штольц: «… Избрать себе маленький круг деятельности, устроить деревушку, возиться с мужиками, входить в их дела, строить, садить — все это ты должен и сможешь сделать». Этот минимум для Штольца и воспитанной им Ольги — максимум. Не потому ли, ярко вспыхнув, быстро увядает любовь Обломова и Ольги?
Как писал русский поэт начала XX века И. Ф. Анненский, «Ольга — миссионерка умеренная, уравновешенная. В ней не желание пострадать, а чувство долга… Миссия у нее скромная — разбудить спящую душу. Влюбилась она не в Обломова, а в свою мечту. Робкий и нежный Обломов, который относился к ней так послушно и так стыдливо, любил ее так просто, был лишь удобным объектом для ее девической мечты и игры в любовь.
Но Ольга — девушка с большим запасом здравого смысла, самостоятельности и воли, главное. Обломов первый, конечно, понимает химеричность их романа, но она первая его разрывает.
Один критик зло посмеялся и над Ольгой, и над концом романа: хороша, мол, любовь, которая лопнула, как мыльный пузырь, оттого, что ленивый жених не собрался в приказ.
Мне конец этот представляется весьма естественным. Гармония романа кончилась давно, да она, может, и мелькнула всего на два мгновения в Casta diva*, в сиреневой ветке; оба, и Ольга и Обломов, переживают сложную, внутреннюю жизнь, но уже совершенно независимо друг от друга; в совместных отношениях идет скучная проза, когда Обломова посылают то за двойными звездами, то за театральными билетами, и он, кряхтя, несет иго романа.
Нужен был какой-нибудь вздор, чтобы оборвать эти совсем утончившиеся нити».
Головной, рассудочно-экспериментальной любви Ольги противопоставлена душевно-сердечная, не управляемая никакой внешней идеей любовь Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Под уютным кровом ее дома находит Обломов желанное успокоение.
Достоинство Ильи Ильича заключается в том, что он лишен самодовольства и сознает свое душевное падение: «Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье… Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его… да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас».
Когда Ольга в сцене последнего свидания заявляет Обломову, что она любила в нем то, на что указал ей Штольц, и упрекает Илью Ильича в голубиной кроткости и нежности, у Обломова подкашиваются ноги. «Он в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: „Да, я скуден, жалок, нищ… бейте, бейте меня!..“
»Отчего его пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, ни впечатления стыда? — задавал вопрос тонко чувствовавший Обломова И. Ф. Анненский и отвечал на него так.- Посмотрите, что противопоставляется обломовской лени: карьера, светская суета, мелкое сутяжничество или культурно-коммерческая деятельность Штольца. Не чувствуется ли в обломовском халате и диване отрицание всех этих попыток разрешить вопрос о жизни?»
В финале романа угасает не только Обломов. Окруженная мещанским комфортом, Ольга начинает все чаще испытывать острые приступы грусти и тоски. Ее тревожат вечные вопросы о смысле жизни, о цели человеческого существования. И что же говорит ей в ответ на все тревоги бескрылый Штольц? «Мы не титаны с тобой… мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту…» Перед нами, в сущности, самый худший вариант обломовщины, потому что у Штольца она тупая и самодовольная.
Историко-философский смысл романа.
В конфликте Обломова со Штольцем за социальными и нравственными проблемами просвечивает еще и другой, историко-философский смысл. Печально-смешной Обломов бросает в романе вызов современной цивилизации с ее идеей исторического прогресса. «И сама история,- говорит он,- только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка».
Обломов готов выйти из суетного круга истории. Он мечтает о том, чтобы люди угомонились наконец и успокоились, бросили погоню за призрачным комфортом, перестали заниматься техническими играми, оставили большие города и вернулись к деревенскому миру, к простой, непритязательной жизни, слитой с ритмами окружающей природы. Здесь герой Гончарова в чем-то предвосхищает мысли позднего Л. Н. Толстого, отрицавшего технический прогресс, звавшего людей к опрощению и к отказу от излишеств цивилизации.
Роман «Обрыв».
Поиски путей органического развития России, снимающего крайности патриархальности и буржуазного прогресса, продолжил Гончаров и в последнем романе — «Обрыв». Он был задуман еще в 1858 году, но работа растянулась, как всегда, на целое десятилетие, и «Обрыв» был завершен в 1868 году. По мере развития в России революционного движения Гончаров становится все более решительным противником крутых общественных перемен. Это сказывается на изменении замысла романа. Первоначально он назывался «Художник». В главном герое, художнике Райском, писатель думал показать проснувшегося к деятельной жизни Обломова. Основной конфликт произведения строился по-прежнему на столкновении старой, патриархально-крепостнической России с новой, деятельной и практической, но решался он в первоначальном замысле торжеством России молодой.
Соответственно, в характере бабушки Райского резко подчеркивались деспотические замашки старой помещицы-крепостницы. Демократ Марк Волохов мыслился героем, сосланным за революционные убеждения в Сибирь. А центральная героиня романа, гордая и независимая Вера, порывала с «бабушкиной правдой» и уезжала вслед за любимым Волоховым.
В ходе работы над романом многое изменилось. В характере бабушки Татьяны Марковны Бережковой все более подчеркивались положительные нравственные ценности, удерживающие жизнь в надежных «берегах». А в поведении молодых героев романа нарастали «падения» и «обрывы». Изменилось и название романа: на смену нейтральному — «Художник» — пришло драматическое — «Обрыв».
Жизнь внесла существенные перемены и в поэтику гончаровского романа. По сравнению с «Обломовым» теперь гораздо чаще Гончаров использует исповедь героев, их внутренний монолог. Усложнилась и повествовательная форма. Между автором и героями романа появился посредник — художник Райский. Это человек непостоянный, дилетант, часто меняющий свои художественные пристрастия. Он немножко музыкант и живописец, а немножко скульптор и писатель. В нем живуче барское, обломовское начало, мешающее герою отдаться жизни глубоко, надолго и всерьез. Все события, все люди, проходящие в романе, пропускаются сквозь призму восприятия этого переменчивого человека. В результате жизнь освещается в самых разнообразных ракурсах: то глазами живописца, то сквозь зыбкие, неуловимые пластическим искусством музыкальные ощущения, то глазами скульптора или писателя, задумавшего большой роман. Через посредника Райского Гончаров добивается в «Обрыве» чрезвычайно объемного и живого художественного изображения, освещающего предметы и явления «со всех сторон».
Если в прошлых романах Гончарова в центре был один герой, а сюжет сосредоточивался на раскрытии его характера, то в «Обрыве» эта целеустремленность исчезает. Здесь множество сюжетных линий и соответствующих им героев. Усиливается в «Обрыве» и мифологический подтекст гончаровского реализма. Нарастает стремление возводить текучие минутные явления к коренным и вечным жизненным основам. Гончаров вообще был убежден, что жизнь при всей ее подвижности удерживает неизменные устои. И в старом, и в новом времени эти устои не убывают, а остаются непоколебимыми. Благодаря им жизнь не погибает и не разрушается, а пребывает и развивается.
Живые характеры людей, а также конфликты между ними здесь прямо возводятся к мифологическим основам, как русским, национальным, так и библейским, общечеловеческим. Бабушка — это и женщина 40-60-х годов, но одновременно и патриархальная Россия с ее устойчивыми, веками выстраданными нравственными ценностями, едиными и для дворянского поместья, и для крестьянской избы. Вера — это и эмансипированная девушка 40-60-х годов с независимым характером и гордым бунтом против авторитета бабушки. Но это и молодая Россия во все эпохи и все времена с ее свободолюбием и бунтом, с ее доведением всего до последней, крайней черты. А за любовной драмой Веры с Марком встают древние сказания о блудном сыне и падшей дочери. В характере же Волохова ярко выражено анархическое, буслаевское начало.
Марк, подносящий Вере яблоко из «райского», бабушкиного сада — намек на дьявольское искушение библейских героев Адама и Еьы. И когда Райский хочет вдохнуть жизнь и страсть в прекрасную внешне, но холодную как статуя кузину Софью Беловодову, в сознании читателя воскрешается античная легенда о скульпторе Пигмалионе и ожившей из мрамора прекрасной Галатее.
В первой части романа мы застаем Райского в Петербурге. Столичная жизнь как соблазн представала перед героями и в «Обыкновенной истории», и в «Обломове». Но теперь Гончаров не обольщается ею: деловому, бюрократическому Петербургу он решительно противопоставляет русскую провинцию. Если раньше писатель искал признаки общественного пробуждения в энергичных, деловых героях русской столицы, то теперь он рисует их ироническими красками. Друг Райского, столичный чиновник Аянов — ограниченный человек. Духовный горизонт его определен взглядами сегодняшнего начальника, убеждения которого меняются в зависимости от обстоятельств.
Попытки Райского разбудить живого человека в его кузине Софье Беловодовой обречены на полное поражение. Она способна пробудиться на мгновение, но образ жизни ее не меняется. В итоге Софья так и остается холодной статуей, а Райский выглядит как неудачник Пигмалион.
Расставшись с Петербургом, он бежит в провинцию, в усадьбу своей бабушки Малиновку, но с целью только отдохнуть. Он не надеется найти здесь бурные страсти и сильные характеры. Убежденный в преимуществах столичной жизни, Райский ждет в Малиновке идиллию с курами и петухами и как будто получает ее. Первым впечатлением Райского является его кузина Марфинька, кормящая голубей и кур.
Но внешние впечатления оказываются обманчивыми. Не столичная, а провинциальная жизнь открывает перед Райским свою неисчерпаемую, неизведанную глубину. Он по очереди знакомится с обитателями российского «захолустья», и каждое знакомство превращается в приятную неожиданность. Под корой дворянских предрассудков бабушки Райский открывает мудрый и здравый народный смысл. А его влюбленность в Марфиньку далека от головного увлечения Софьей Беловодовой. В Софье он ценил лишь собственные воспитательные способности, Марфинька же увлекает Райского другим. С нею он совершенно забывает о себе, тянется к неизведанному совершенству. Марфинька — это полевой цветок, выросший на почве патриархального русского быта: «Нет, нет, я здешняя, я вся вот из этого песочку, из этой травки! Не хочу никуда!»
Потом внимание Райского переключается на черноглазую дикарку Веру, девушку умную, начитанную, живущую своим умом и волей. Ее не пугает обрыв рядом с усадьбой и связанные с ним народные поверья. Черноглазая, своенравная Вера — загадка для дилетанта в жизни и в искусстве Райского, который преследует героиню на каждом шагу, пытаясь ее разгадать.
И тут на сцену выступает друг загадочной Веры, современный отрицатель-нигилист Марк Волохов. Все его поведение — дерзкий вызов принятым условностям, обычаям, узаконенным людьми формам жизни. Если принято входить в дверь — Марк влезает в окно. Если все охраняют право собственности — Марк спокойно, среди бела дня таскает яблоки из сада Бережковой. Если люди берегут книги — Марк имеет привычку вырывать прочитанную страницу и употреблять ее на раскуривание сигары. Если обыватели разводят кур и петухов, овец и свиней и прочую полезную скотину, то Марк выращивает страшных бульдогов, надеясь в будущем затравить ими полицмейстера.
Вызывающа в романе и внешность Марка: открытое и дерзкое лицо, смелый взгляд серых глаз. Даже руки у него длинные, большие и цепкие, и он любит сидеть неподвижно, поджав ноги и собравшись в комок, сохраняя свойственную хищникам зоркость и чуткость, словно бы готовясь к прыжку.
Но есть в выходках Марка какая-то бравада, за которой скрываются неприкаянность и беззащитность, уязвленное самолюбие. «Дела у нас русских нет, а есть мираж дела»,- звучит в романе знаменательная фраза Марка. Причем она настолько всеобъемлюща и универсальна, что ее можно адресовать и чиновнику Аянову, и Райскому, и самому Марку Волохову.
Чуткая Вера откликается на волоховский протест именно потому, что под ним чувствуется трепетная и незащищенная душа. Революционеры-нигилисты, в глазах писателя, дают России необходимый толчок, потрясающий сонную Обломовку до основания. Может быть, России суждено переболеть и революцией, но именно переболеть: творческого, нравственного, созидательного начала в ней Гончаров не принимает и не обнаруживает.
Волохов способен пробудить в Вере только страсть, в порыве которой она решается на безрассудный поступок. Гончаров и любуется взлетом страстей, и опасается губительных «обрывов». Заблуждения страстей неизбежны, но не они определяют движение глубинного русла жизни. Страсти — это бурные завихрения над спокойной глубиною медленно текущих вод. Для глубоких натур эти вихри страстей и «обрывы» — лишь этап, лишь болезненный перехлест на пути к вожделенной гармонии.
А спасение России от «обрывов», от разрушительных революционных катастроф Гончаров видит в Тушиных. Тушины — строители и созидатели, опирающиеся в своей работе на тысячелетние традиции российского хозяйствования. У них в Дымках «паровой пильный завод» и деревенька, где все домики на подбор, ни одного под соломенной крышей. Тушин развивает традиции патриархально-общинного хозяйства. Артель его рабочих напоминает дружину. «Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством». Гончаров ищет в Тушине гармоническое единство старого и нового, прошлого и настоящего. Тушинская деловитость и предприимчивость совершенно лишена буржуазно ограниченных, хищнических черт. «В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния» Гончаров видит «какого-то заволжского Роберта Овена».
Не секрет, что из четырех великих романистов России Гончаров наименее популярен. В Европе, которая зачитывается Тургеневым, Достоевским и Толстым, Гончаров читается менее других. Наш деловитый и решительный XX век не хочет прислушиваться к мудрым советам честного русского консерватора. А между тем Гончаров-писатель велик тем, чего людям XX века явно недостает. На исходе этого столетия человечество осознало, наконец, что слишком обожествляло научно-технический прогресс и самоновейшие результаты научных знаний и слишком бесцеремонно обращалось с наследством, начиная с культурных традиций и кончая богатствами природы. И вот природа и культура все громче и предупреждающе напоминают нам, что всякое агрессивное вторжение в их хрупкое вещество чревато необратимыми последствиями, экологической катастрофой. И вот мы чаще и чаще оглядываемся назад, на те ценности, которые определяли нашу жизнестойкость в прошлые эпохи, на то, что мы с радикальной непочтительностью предали забвению. И Гончаров-художник, настойчиво предупреждавший, что развитие не должно порывать органические связи с вековыми традициями, вековыми ценностями национальной культуры, стоит не позади, а впереди нас.
* Чистой богине (итал.)
Вопросы и задания: В чем заключаются особенности Гончарова-художника? Что привлекает вас в добролюбовской оценке Обломова и обломовщины? Сопоставьте добролюбовскую и дружининскую трактовки романа и выскажите ваше к ним отношение. Что сближает художественный метод Гончарова с Гоголем и в чем их отличие? Что общего у Обломова с «лишними людьми» (Онегиным, Печориным)? Ваша оценка любви Обломова и Ольги. В чем видит Гончаров ограниченность Штольца? Почему обломовская лень не производит на нас впечатления пошлости? В чем вы видите историко-философский смысл романа? Как проблемы, поставленные в «Обломове», решаются в «Обрыве»? Чем близки нам раздумья и тревоги Гончарова-писателя?
Разделы сайта:
- Главная
- Новости
- Предметы
- Классики
- Рефераты
- Гостевая книга
- Контакты
Предметы:
- Английский язык
- Библиография
- Издательское дело
- История
- Зарубежная литература
- История книжного дела
- КСЕ (Естествознание)
- Культурология
- Лингвистика
- Логика
- Маркетинг
- Менеджмент
- Педагогика
- Психология
- Политология
- Редактирование
- Реклама
- Религиоведение
- Риторика
- Русская литература
- Русский язык
- Современный лит. процесс
- Социология
- Текстология
- Теория литературы
- Философия
- Экономика
- Языкознание
- Разное
Быстрая навигация: История отечественной литературы > Русская литература XIX века > Иван Гончаров > Произведения
Фрегат «Паллада» — Гончаров И.А.
Очерки путешествия в двух
томах
(1858)
Навигация по произведению Фрегат «Паллада»:
Том I:
I
II
III
IV (первый фрагмент)
IV (второй
фрагмент)
V VI
VII
VIII
Том II:
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
Через двадцать лет
Скачать произведение
в формате .doc (789КБ)
IV
ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА
Вид берега. — Бо-Тсунг. —
Базиль Галль. — Идиллия. — Дорога в столицу. — Столица Чуди. —
Каменные работы. — Пейзажи. — Жители, домы и храмы. — Поля. —
Королевский замок. — Зависимость островов. — Протестантский
миссионер. — Другая сторона идиллии. — Напа-Киян. — Жилище
миссионера. — Напакиянский губернатор. — Корабль с китайскими
эмигрантами. — Прогулки и отплытие.
Порт Напа-Киян, с 31-го января по 9-е февраля 1854 г.
Я всё время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало,
утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками,
перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу
творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете
очерк, сначала легкий, бледный, туманный; всё мешается в одном
свете: деревья с водой, земля с небом… Придешь потом через
несколько дней — и эти бледные очерки обратились уже в
определительные образы: берега дышат жизнью, всё ярко и ясно…
В таких же бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала
мне Ликейские острова. Масса земли, не то синей, не то серой,
местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по
горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда
коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и
буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко
вскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. Издали
казалось, что из воды вырывались клубы густого белого дыма; а
кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился
жемчуг да изумруды. Берег темен; но вдруг луч падал на
какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел
этот клочок!
Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер; наконец он утих
и позволил нам зайти за рифы, на рейд. Это было сделано с
рассветом; я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег
представился мне вдруг, как уже оконченная, полная картина,
прихотливо изрезанный красивыми линиями, со всеми своими
очаровательными подробностями, в красках, в блеске.
Берег, особенно в сравнении с нагасакским, казался низменным; но
зато как он разнообразен! Налево от нас выдающаяся в море часть
выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина
сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от
непогод, кое-где кусты да глинистые отмели. Прямо перед нами
берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию
пейзажей, один другого лучше. Низменная часть тонет в густых
садах; холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными
заплатами; вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят
дружными кучками с своими горизонтальными ветвями.
Что за зелень там, в этой куче деревьев? чем засеяны поля?
каковы домы?.. Скорей, скорей на берег! Две коралловые серые
скалы выступают далеко из берегов и висят над водой; на вершине
одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней
тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы
разных форм, цилиндры, полукруги, овалы; издалека примешь их за
здания — так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо
берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется
низменной, песчаной отмелью, заливаемой приливом. Вплоть почти
под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны;
местами высунулись из воды камни; во время отлива они видны, а в
прилив прячутся.
Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без
хороших карт! а тут одна только карта и есть порядочная — Бичи.
Через час катер наш, чуть-чуть задевая килем за каменья
обмелевшей при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы
выскочили из шлюпки и очутились — в саду не в саду и не в лесу,
а в каком-то парке, под непроницаемым сводом отчасти знакомых и
отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных
знакомцев было тут немного сосен, а то всё новое, у нас
невиданное.
Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный
и пряный запах тропических лесов, охватила теплая влажность
ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других,
которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть
друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу
или саду, манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой
отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской
воды соли. За отмелью начиналась аллея или улица — как хотите,
маленькой деревушки Бо-Тсунг.
Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.): он в числе первых
посетил Ликейские острова, и взгляните на приложенную к книге
картинку, вид острова: это именно тот, где мы пристали. Вы
посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными
деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Всё
это покажется похожим на пейзажи — с деревьями из моху, с
стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите
оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки сделать
что-нибудь похожее на действительность.
Что это такое Ликейские острова, или, как писали у нас в старых
географиях, Лиеу-киеу, или, как иностранцы называют их, Лю-чу (Loo-сhoo),
а по выговору жителей Ду-чу? Развертываете того же Галля,
думаете прочесть путешествие и читаете — идиллию. Да, это
идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте
теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны,
не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как
обыкновенно делает природа. Всё будто размерено, расчищено и
красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.
Читаете, что люди, лошади, быки — здесь карлики, а куры и петухи
— великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат
серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады.
Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме
учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да
земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они
патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут
за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними
избытки своих полей и садов… Что это? где мы? среди древних
пастушеских народов в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле
прав?
Всё это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций,
миртов и банианов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в
сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие
растения и потом бежал догонять товарищей.
Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями,
в самом деле как на картинке, жались хижины, окруженные каменным
забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка
задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить
какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миньятюрные домы
окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был
сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них
выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли,
опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с
важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких,
простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно
и сказать “старики”, непременно скажешь “старцы”, с длинными
седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на
маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко
поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них
боязливо прятались дети.
“Что это такое? — твердил я, удивляясь всё более и более, — этак
не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру с их
Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках”. А
тут кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег
погулять, будто в дополнение к идиллии.
“Куда же мы идем?” — вдруг спросил кто-то из нас, и все мы
остановились. “Куда эта дорога?” — спросил я одного жителя
по-английски. Он показал на ухо, помотал головой и сделал
отрицательный знак. “Пойдемте в столицу, — сказал И. В.
Фуругельм, — в Чую, или Чуди (Tshudi, Tshue — по-китайски Шоу-ли,
главное место, но жители произносят Шули); до нее час ходьбы по
прекрасной дороге, среди живописных пейзажей”. — “Пойдемте”.
Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической
растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё
было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса,
дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному,
почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их
лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых; дивился также я
этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это
муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из
жизни древних. Здесь как всё родилось, так, кажется, и не
менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то
здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще
возможен золотой век.
Лес как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный
глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с
природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти
коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же
крепкие каменные домы, — ничего не бывало: там скромно стоят
игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде
хлевов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого
дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона
дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной
бумагой, за неимением стекол; это у зажиточных домов, а у хижин
вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому, об одной арке, над
ручьем, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых
больших камней… Кто учил этих детей природы строить? невольно
спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад
узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди,
умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.
Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают
его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся
от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о
религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда
поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ,
гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит
мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без
перемены. Люди, страсти, дела — всё просто, несложно,
первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко
и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и
другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше.
Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?
Тронет, и уж тронула. Американцы, или люди Соединенных Штатов,
как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив
здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в
которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова
под свое покровительство против ига японцев, на которых имеют
какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они
выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого
человек Соединенных Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.
— Куда ведет мост? — спросили мы И. В. Фуругельма, который
прежде нас пришел с своим судном “Князь Меншиков” и успел
ознакомиться с местностью острова.
— В Напу, или в Напа-Киян: вон он! — отвечал Фуругельм, указывая
через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу
и совсем пропадали в зелени.
Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями,
которые у нас растут за стеклом в кадках. При выходе из деревни
был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины
сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных
бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники,
какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на
жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие
ворота или узенькие переулки, бросив свои товары; другие не
успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие!
И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины
красивы, стройны: любой из них годится в Меналки, а Хлои их ни
на что не похожи! Нет, жаркие климаты не благоприятны для дам, и
прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата,
ликейцев или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок.
Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая
ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы: они
местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не
понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком? Зато местами
коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету.
Выйдя из деревни, мы вступили в великолепнейшую аллею, которая
окаймлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме банианов,
замечательны вышиной и красотой толстые деревья, из волокон
которых японцы делают свою писчую бумагу; потом разные породы
мирт; изредка видна в саду кокосовая пальма, с орехами, и
веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачна против
виденных нами на Яве и в Сингапуре: видно, ей холодно здесь —
листья жидки и малы. Мы прошли мимо какого-то, загороженного
высокой каменной и массивной стеной, здания с тремя входами,
наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах: это
буддийский монастырь. В щели, из-за стены, выглядывало несколько
бонз с бритыми головами.
Всё это место напоминало мне наши старые и известные европейские
сады. От аллей шло множество дорожек и переулков, налево — в лес
и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо — в
обработанные поля. Дорога змееобразно вилась по холмам и
долинам… Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами,
когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали
открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а
вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом,
плантации сахарного тростника, гряды с огородною зеленью, то
бледною, то изумрудно-темною!
Всё открывшееся перед нами пространство, с лесами и горами, было
облито горячим блеском солнца; кое-где в полях работали люди,
рассаживали рис или собирали картофель, капусту и проч. Над всем
этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и
обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже
опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и
надежным приютом.
Всё это не деревья, не хижины: это древние веси, сени, кущи и
пажити; иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было
видеть себя и товарищей, в наших коротких, обтянутых платьях,
быстро и звонко шагающих под тенью исполинских банианов.
Маленькие, хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев,
пугались при встрече с нами; они брыкались и бросались в
сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной
шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины хотя и не
брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они
бросались в сторону. Только одна девочка, лет тринадцати и,
сверх ожидания, хорошенькая, вышла из сада на дорогу и смело, с
любопытством, во все глаза смотрела на нас, как смотрят бойкие
дети. “Какой большой петух! — показывая на петуха, сказал
кто-то, — по крайней мере в полтора раза выше наших”.
Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из
которых Посьет выломал тут же себе славную зеленую трость.
Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом
строем красивых деревьев и т. д. “Что это, ячмень, кажется!” —
спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый ячмень! По террасам,
с одной на другую, текли нити воды, орошая посевы риса.
Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть: на
пешеходов ли, спешивших, с маленькими лошадками и клажей на них,
из столицы и в столицу; на дальнюю ли гору, которая мягкой
зеленой покатостью манила войти на нее и посидеть под кедрами;
солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в
прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами,
почти совсем закрытыми ветвями. Что это за сила растительности!
какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково
богатство и разнообразие видов, что перестаешь наконец дорожить
увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно
смотришь вокруг: всё равно, куда ни смотри, одно и то же — всё
прекрасно, игриво, зелено.
Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто: наши узкие костюмы,
из сукна и других плотных материй, просто невозможны в этих
климатах. Каков жар должен быть летом! Хорошо еще, что ветер с
моря приносит со всех сторон постоянно прохладу! А всего в 26-м
градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их
под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с
своей стороны.
На горе начались хижины — всё как будто игрушки; жаль, что они
прячутся за эти сплошные заборы; но иначе нельзя: ураганы, или
тайфуны, в полосу которых входят и Лю-чу, разметали бы, как сор,
эти птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе
лесу уже не было, но зато чего не было в долине, которая
простиралась далеко от подошвы ее в сторону! Я устал любоваться,
равнодушно смотрел на персиковые деревья в полном цвету, на
миртовые и кипарисные кусты! Мы вошли на гору, окинули взглядом
всё пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии
видов. Глаз видит далеко: с обеих сторон острова видно море на
третьем плане. Вон и риф, с пеной бурунов, еще вчера грозивший
нам смертью! “Я в бурю всю ночь не спал и молился за вас, —
сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется
методист, — я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы”.
Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается
очень опасным.
Наконец мы пришли. “Э! да не шутя столица!” — подумаешь, глядя
на широкие ворота с фронтоном в китайском вкусе, с китайскою же
надписью.
“Что там написано? прочтите”, — спросили мы Гошкевича. “Не вижу,
высоко”, — отвечал он. Мы забыли, что он был близорук.
Мы прошли ворота: перед нами тянулась бесконечная широкая улица,
или та же дорога, только не мощенная крупными кораллами, а
убитая мелкими каменьями, как шоссе, с сплошными, по обеим
сторонам, садами или парками, с великолепной растительностью.
Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли.
Никто нас не встретил, никто даже не показывался: все как будто
выехали из города. Немногие встречные и, между прочим, один
доктор или бонз, с бритой головой, в халате из травяного холста,
торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них,
они, с выражением величайшей покорности, а больше, кажется,
страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых
ворот показывались и исчезали люди или смотрели в щели. Видно,
что в этой улице жил высший или зажиточный класс: к домам их
вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли всё далее;
улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом.
Это замок с каменной, массивной стеной, сажени в четыре вышины,
местами поросшей мохом и ползучими растениями. Широкое каменное
крыльцо, грубой работы, вело к высокому порталу, заколоченному
наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах,
сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде ни признака
жизни; всё окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли
из-за тридевяти земель как будто доставать жар-птицу. У ворот, в
стороне, выстроена деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие
мы видели в Нагасаки. В ней на циновках сидели на пятках
ликейцы, вероятно слуги дворца: и те не шевелились, тоже — как
каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под
гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами,
между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых
местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон огороженная
забором и окруженная бассейном кумирня; вдали узкие, но
правильные улицы; кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и
по покатости, — решительно кущи да сени древнего мира!
Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не
царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия.
Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей,
глубокий мир между людьми — всё свидетельствовало, что жизнь
доведена трудом до крайней степени материального благосостояния;
что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих
житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет еще в
сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих
пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где
начинается царство духа, и не пошла далее… Но всё готово: у
одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко
ждет пробуждения младенцев; у других — “люди Соединенных Штатов”
с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими
орудиями новейшей цивилизации…
Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно
вверх по крутой каменной тропинке, всё из кораллов. Других
тропинок я не видал; и те, которые ведут из улиц в поля, все
идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за
нами, но издали, робко. И. В. Фуругельм, кототому не нравилось
это провожанье, махнул им рукой, чтоб шли прочь: они в ту же
минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении,
пока он перестал обращать на них внимание, а потом опять шли за
нами, прячась в кусты, а где кустов не было, следовали по
дороге, и всё издали. Я, однако ж, знаками подозвал одного к
себе. Он не вдруг подошел: сделает два шага и остановится в
нерешимости; наконец подошел. В это время надо было спускаться
по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке,
проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными
оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. Я оперся
на ликейца, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и
осторожно и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я
оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея
надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших
поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому
месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая
остановиться, и бежит до первого большого дерева, за которое и
уцепится.
Внизу мы прошли чрез живописнейший лесок — нельзя нарочно
расположить так красиво рощу — под развесистыми банианами и
кедрами, и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно занесенная
землетрясением, громадная глыба коралла, вся обросшая мохом и
зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда
на целый день с музыкой; “с закуской и обедом”, — прибавили
положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц с маленькими
домиками: около каждого теснилась кучка бананов и цветы.
Из нее вышли на другую улицу, прошли несколько домов; улица
вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы
остановились, очарованные несравненным видом. Представьте пруд,
вроде Марли, гладкий и чистый, как зеркало; с противоположной
стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка
или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов,
самых нежных, мягких, узорчатых листьев и острых игл. Этот
исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть
почвы, на которой он растет.
Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед — другое
неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была,
по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают
жители? Они с испугом указывают на нас: кто успевает, запирает
лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны.
Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще
бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками
ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата;
рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво
работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся
мужчины недоверчиво смотрели на нас; женщины закрылись. Товар
всё тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу, еще
пилили дерево, красили простую материю, продавали зелень, табак
да разные сласти.
Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была
заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшечек с
горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками,
что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал
головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два,
деревянные же, раскрашенные идола безобразной наружности,
напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашел было на
островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но
жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я
заметил несколько бритых бонз, всё молодых; один был просто
мальчик: вероятно, это служители храмов.
Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую
дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал
на хребет каждой лошадки; но жители не дают лошадей, хотя я
видел у одного забора множество их оседланных и привязанных.
Сходя с горы, мы увидали чистенький дворик; я подошел к воротам.
Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными
шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом; я за ним, со
мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не
было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и
столбах да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не
буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули
в другую комнату, по-видимому парадную, устланную до того
чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева,
кажется, обедали. Они зашевелились было готовить нам чай, но мы,
чтоб не тревожить их, удалились.
Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед
нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента,
управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому
случаю наложен траур на пятьдесят дней. Мы видели многих в белых
травяных халатах. Известно, что белый цвет — траурный на
Востоке.
Ликейские острова управляются королем. Около трехсот лет назад
прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли
острова в свое владение и обложили данью, которая, по словам
здешнего миссионера, простирается до двухсот тысяч рублей на
наши деньги. Но, по показанию других, острова могут приносить
впятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии
острова. Недаром князь Сатсумский считается самым богатым из
всех японских князей.
Но дань платится натурою: рисом, который выше всех сортов, и
даже японского, также табаком, амброй, тканями из банановых
волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают
много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.
После ликейцы думали было отложиться от Японии, но были покорены
вновь. Ликейский король, в начале царствования, отправляется
обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно.
Нынешнему королю всего двенадцать лет. Он поедет в Японию по
достижении пятнадцатилетнего возраста. Король живет здесь как
пленник, в крепком своем замке, который мы видели, и никому не
показывается. Показываться народу, как вам известно, считается
для верховной власти неприличным на Востоке. Здешний миссионер
проник, однако ж, нечаянно, в китайском платье, в замок и,
незамеченный, дошел до покоев короля. Король играл в мячик и
долго не замечал постороннего; потом увидел и скрылся.
Придворные с поклонами окружили нескромного посетителя и
показали дорогу вон.
Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и
им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и
десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и
ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки
ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого
знают всё по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они
пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но
и не с данью, а с подарками — так сказал нам миссионер, между
тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они
в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению
японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами
могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб
не восстановить против себя ни тех ни других, заранее отрекаются
от японцев.
Гошкевич и отец Аввакум отыскали между ликейцами одного
знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине, и
разменялись подарками. Вот стечения обстоятельств! “Вы мне
подарили графин”, — сказал ликеец отцу Аввакуму. Последний
вспомнил, что это действительно так было.
Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от
китайцев, ни от корейцев. С первого раза видно, что в
существовании ликейцев не участвовали китайцы. Корейцев я еще не
видал и потому не знаю, есть ли сходство у них с ликейцами или
нет. У ликейцев глаза большие, не угловатые, как у китайцев,
овал лица правильный, скулы не выдаются. Язык у них, по словам
миссионера, сродни японскому и составляет, кажется, его идиом.
Ликейцы и японцы понимают друг друга. Ближе всего предположить,
что они родня между собою.
Мы лениво возвращались домой, не переставая распространять по
дороге чувство вроде безотчетного ужаса. Мальчишка лет десяти, с
вязанкой зелени, вел другого мальчика лет шести; завидя нас, он
бросил вязанку и маленького своего товарища и кинулся без
оглядки бежать по боковой тропинке в поля. Возвратясь в деревню
Бо-Тсунг, мы втроем, Посьет, Аввакум и я, зашли в ворота одного
дома, думая, что сейчас за воротами увидим и крыльцо; но забор
шел лабиринтом и был не один, а два, образуя вместе коридор. Мы
поворотили направо, потом налево… Конец, что ли? нет, опять
коридор направо, точно западня для волков, еще налево — и мы
очутились в маленьком садике перед домиком, огороженным еще
третьим, бамбуковым, и последним забором. Мы, входя, наткнулись
на низенькую, черную, как головешка, старуху с плоским лицом.
Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам
к лесу, работая во все лопатки. Мы покатились со смеху; она
ускорила шаги. Мы хотели отворить ворота — заперты; зашли с
другой стороны к калитке — тоже заперта. Оставалось уйти. Мы
посмотрели опять на бегущую всё еще вдали старуху и повернули к
выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и
отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. Мы вошли в
палисадник; он отодвинул одну стену или раму домика, и нам
представились миньятюрные комнаты, совершенно как клетки
попугая, с своей чистотой, лакированными вещами и белыми
циновками. Мы туда не вошли, а попросили огня. Сейчас другой,
молодой ликеец принес нам горшок с золой и угольями. Мы
взглянули кругом себя — цветы, алоэ, бананы, больше ничего;
поблагодарили хозяина и вышли вон. Я посмотрел, что старуха? Она
в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан,
остановилась и, как орангутанг, глядела сквозь ветви на нас.
Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась
бежать дальше в лес.
Мы догнали товарищей, которые уже садились в катер. Но во время
нашей прогулки вода сбыла, и катер трогал килем дно. Мы
стянулись кое-как и добрались до нашего судна, где застали
гостей: трех длиннобородых старцев в белых, с черными полосками,
халатах и сандалиях на босу ногу. Они приехали от напайского
губернатора поздравить с приездом и привезли в подарок зелени,
яиц и кур. Их угостили чаем. Один свободно говорил с Гошкевичем,
на бумаге, по-китайски, а другой по-английски, но очень мало. И
то успех, когда вспомнишь, что наши европейские языки чужды им и
по духу, и по формам. Давно ли “человек Соединенных Штатов
покровительствует” этим младенцам, а уж кое-чему научил…
Ликейцы обещали привезти быков, рыбы, зелени за деньги и уехали.
На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег,
как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый
человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим
лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой
говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре
его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость,
скрытность, что-то не располагающее в его пользу. Он восемь лет
живет на Лю-чу и в мае отправляется в Англию печатать книги
Св<ященного> Писания на ликейском и японском языках. Жену и
детей он уже отправил в Китай и сам отправится туда же с Перри,
который обещал взять его с собою, лишь только другой миссионер
приедет на смену.
Восемь лет на Лю-чу — это подвиг истинно христианский! Миссионер
говорил по-английски, по-немецки и весьма плохо по-французски.
Мы пустились в расспросы о жителях, о народонаселении, о
промышленности, о нравах, обо всем.
— Что за место, что за жители! — говорили мы, — не веришь Базилю
Галлю, а выходит на поверку, что он еще скромен.
— Да, место точно прекрасное, — сказал Беттельгейм, — надо еще
осмотреть залив Мельвиль да один пункт на северной стороне — это
рай.
— А жители? Какая простота нравов, гостеприимство! Странствуешь
точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей,
которые выходили путникам навстречу, угощали…
— Разве они встречали и угощали вас? — спросил пастор.
— Нет, встречали мало, больше провожали…
— Да, они действительно охотнее провожают, нежели встречают:
ведь это полицейские, шпионы.
— Как полицейские? Разве здесь есть они?
— Как же! Чтоб наблюдать, куда вы пойдете, что будете делать,
замечать, кто к вам подойдет, станет разговаривать, чтоб потом
расправиться с тем по-своему…
— Что вы? возможно ли? Кажется, жители так кротки, простодушны,
так приветливы: это видно из их поклонов…
— Боятся, так и приветливы. Если японцы стали вдруг приветливы,
когда вы и американцы появились с большой силой, то как же не
быть приветливыми ликейцам, которых всего от шестидесяти до
восьмидесяти тысяч на острове!
— Мне нравятся простота и трудолюбие, — сказал я. — Есть же
уголок в мире, который не нуждается ни в каком соседе, ни в
какой помощи! Кажется, если б этим детям природы предоставлено
было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не
загораживать им солнца. Они умеренны, воздержны…
— Они точно простоваты, — заметил миссионер, — но насчет
воздержания… нельзя сказать: они сильно пьют.
— Пьют! что вы? помилуйте, — защищали мы с жаром (нам очень
хотелось отстоять идиллию и мечту о золотом веке), — у них и
вина нет: что им пить?
— А саки? — отвечал Беттельгейм, — оно здесь лучше, нежели в
Японии, и крепкое, как ром.
— Пьют! — говорил я в недоумении.
— И играют, — прибавил пастор.
— Нет, уж это слишком! ужели в самом деле? Да во что же: в
какие-нибудь невинные игры: борются, бегают, как древние на
олимпийских играх…
— Нет, нет! — настойчиво твердил Беттельгейм, — играют в
азартные игры…
— Скажите, пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы —
шпионы, картежники, пьяницы! Кто бы это подумал!
— Да, у них есть что-то вроде карт, — сказал он, — даже нищие, и
те играют как-то стружками или щепками и проигрываются дотла.
— Вот тебе и идиллия, и золотой век, и “Одиссея”! Да у кого они
переняли? — хотел было я спросить, но вспомнил, что есть у кого
перенять: они просвещение заимствуют из Китая, а там, на базаре,
я видел непроходимую кучу народа, толпившегося около другой кучи
сидевших на полу игроков, которые кидали, помнится, кости.
Каждый ставил деньги; один счастливый загребал потом у всех.
Игра начиналась снова; игроки так углубились в свое дело, что не
замечали зрителей, и зрители, в свою очередь, не замечали
игроков и следили за костями. Вспомнил я еще, что недалеко от
ликейцев — Манила, что там проматываются на пари за бои петухов;
что еще на некоторых островах Тихого океана страсть к игре
свирепствует, как в любом европейском клубе.
— Удивительно, — сказал я, — что такие кроткие люди заражены
самою задорною из страстей!
— Нельзя сказать, чтоб они были кротки, — заметил пастор, —
здесь жили католические миссионеры: жители преследовали их, и
недавно еще они… поколотили одного миссионера,
некатолического…
— Кого же это?
— Меня, — кротко и скромно отвечал Беттельгейм (но под этой
скромностью таилось, кажется, не смирение). — Потом, — продолжал
он, — уж постоянно стали заходить сюда корабли христианских
наций, и именно от английского правительства разрешено раз в год
посылать одно военное судно, с китайской станции, на Лю-чу
наблюдать, как поступают с нами, и вот жители кланяются теперь в
пояс. Они невежественны, грязны, грубы…
Мне стало подозрительно это поголовное порицание бедных
ликейцев. Наши сказывали, что когда они спрашивали ликейцев, где
живет миссионер, то последние обнаружили знаки явного
нерасположения к нему, и один по-английски сказал про него: “Bad
man, very bad man!” (“Дурной, очень дурной человек!”).
Платя за нерасположение нерасположением, что было не совсем
по-христиански, пастор, может быть, немного преувеличивал
миньятюрные пороки этих пигмеев. Они действительно неласковы
были всегда к миссионерам. Несколько лет назад здесь поселились
два католических монаха. Жители, не зная их звания, обходились с
ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но узнав, кто они,
стали чуждаться их. Они не оскорбляли их, напротив, кланялись
им; но лишь только те открывали рот, чтоб заговорить о религии,
ликейцы зажимали уши и бежали прочь. Так те, не успев ни в чем,
и уехали на французском военном судне, под командою, кажется,
адмирала Сесиля, назад, в Китай.
Беттельгейм, однако ж, сказывал, что он беспрепятственно
проповедует ликейцам в их домах, и будто они слушают его.
Сомневаюсь, судя по тому, как с ним здесь поступают. Он говорит
даже, что ему удалось несколько человек крестить.
— Я бы успел и больше, — заключил он, — если б не мешали японцы.
Те ежегодно приезжают сюда на шестидесяти лодках, за данью и за
товарами, а ликейцы посылают в Японию до шестнадцати. Японцы
живут здесь подолгу и поддерживают в народе свою систему
отчуждения от иностранцев и, между прочим, ненависть к
христианам. И теперь их здесь до 600 человек. Они отрастили себе
волосы, оделись в здешний костюм и прячутся, наблюдая и за
жителями, и за иностранцами. Вы видите, что здесь всё японское:
пришедшая оттуда религия, нравы, обычаи, даже письменный язык,
наполовину, однако ж, с китайским. Одни и те же произведения
почвы и та же промышленность. Они делают такие же материи, такие
же лакированные вещи, только всё грубее и проще; едят то же
самое, как те, — вся японская жизнь и сама Япония в миньятюре.
Не верьте Базилю Галлю, — заключил он, отодвигая лежавшую перед
ним книгу Галля, — в ней ни одного слова правды нет, всё
диаметрально противоположно истине!
Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему: первого
слишком ласково встречали, а другого… поколотили; от этого два
разных голоса.
Я выразил ему только опасение, чтоб он и его преемники
торопливостью не испортили всего дела. “Если Япония откроет свои
порты для торговли всем нациям, — сказал я, — может быть, вы
поспешите вместе с товарами послать туда и ваши переводы Нового
завета. Предсказываю вам, что вы закроете опять Японию, ничего
не сделаете для религии и испортите торговлю. Японцы осматривали
до сих пор каждое судно, записывали каждую вещь, не в видах
торгового соперничества, а чтоб не прокралась к ним христианская
книга, крест — всё, что относится до религии; замечали число
людей, чтоб не пробрался в Японию священник проповедовать
религию, которой они так боятся. И долго еще не отступят они от
этих строгостей, разве когда заменят свою жизнь европейскою. Вы
лучше подождите, — заключил я, — когда учредятся европейские
фактории, которые, конечно, выговорят себе право отправлять дома
богослужение, и вы сначала везите священные книги и предметы в
эти фактории, чего японцы par le temps qui court1 запретить уже
не могут, а от них исподволь, понемногу, перейдут они к
японцам”.
Пока мы рассуждали в каюте, на палубе сигнальщик объявил, что
трехмачтовое судно идет. Все пошли вверх. С правой стороны,
из-за острова, показалось большое купеческое судно, мчавшееся
под всеми парусами прямо на риф.
Был туман и свежий ветер, потом пошел дождь. Однако ж мы в трубу
рассмотрели, что судно было под английским флагом. Адмирал
сейчас отправил навстречу к нему шлюпку и штурманского офицера
отвести от мели. Часа через два корабль стоял уже близ нас на
якоре.
Но что это у него на палубе? Ужаснейшая толпа народа,
непроходимой кучей, как стадо баранов, жалась на палубе. Без
справок можно было догадаться, что это эмигранты. Точно такое
судно видели мы у острова Мадеры с эмигрантами, отправлявшимися
в Австралию. Но откуда и куда их везут? Беттельгейм сказал, что,
верно, тут же приехал другой миссионер, на смену ему, и поехал
туда разведать. Чрез полчаса он вернулся с молодым человеком,
лет 26-ти, которого и представил адмиралу как своего преемника.
Оба они обедали у нас. Вновь прибывший пастор, англичанин же,
объявил, что судно пришло из Гонконга, употребив ровно месяц на
этот переход, что идет оно в Сан-Франциско с пятьюстами
китайцев, мужчин и женщин. Кого и чего нет теперь в
Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба
составились из бродяг.
После обеда наши уехали на берег чай пить in’s Grьne. Я
прозевал, но зато из привезенной с английского корабля газеты
узнал много новостей из Европы, особенно интересных для нас.
Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают
интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожидании…
Часов в семь за мной прислали шлюпку. Уж было темно. Застав
наших на мысе, около рощи, у костра, я рассказал им наскоро
новости и сам пошел по тропинке к лесу, оставив их рассуждать.
Хорошо! Я наслаждался неизвестными вам впечатлениями, светлым
сумраком лунной, томной и теплой ночи, шелестом листьев рощи,
полной мрака. Банианы, пальмы и другие чужеземцы шумели при
тихом ветре иначе, нежели наши березы и осины, мягче, на чужом
языке; и лягушки квакали по-другому, крепче наших, как
кастаньеты. Вблизи плескал прилив, вдали глухо ревели буруны на
рифах. До меня доносился живой говор товарищей. Меня позвали
ехать, я поспешил на зов и в темноте наткнулся на кучку
ликейцев, которые из-за шалаша наблюдали за нашими. Они вдруг
низко поклонились и, не разгибаясь, дали мне пройти.
На другой день мы отправились на берег с визитами, сначала к
американским офицерам, которые заняли для себя и для матросов —
не знаю как, посредством ли покупки или просто
“покровительства”, — препорядочный домик и большой огород с
сладким картофелем, таро, горохом и табаком. Я не пошел к ним, а
отправился по берегу моря, по отмели, влез на холм, пробрался в
грот, где расположились бивуаком матросы с наших судов, потом
посетил в лесу нашу идиллию: матрос Кормчин пас там овец. Везде,
даже в лесу, видел я каменные постройки, заборы, плетни и хижины
с огородами и полями. Всё обработано, всюду протоптаны чистые
дорожки или сделаны каменные тропинки.
Остров, судя по пространству, очень заселен; он длиной верст
восемьдесят, а шириной от шести до пятнадцати и восемнадцати
верст: и на этом пространстве живет от шестидесяти до семидесяти
тысяч. В Напе, говорил миссионер, до двадцати, и в Чуди столько
же тысяч жителей.
Я дождался наших на мосту, ведущем в Напу, и мы пошли в город
искать миссионеров.
Там то же почти, что и в Чуди: длинные, загороженные каменными,
массивными заборами улицы с густыми, прекрасными деревьями: так
что идешь по аллеям. У ворот домов стоят жители. Они, кажется,
немного перестали бояться нас, видя, что мы ничего худого им не
делаем. В городе, при таком большом народонаселении, было живое
движение. Много народа толпилось, ходило взад и вперед; носили
тяжести, и довольно большие, особенно женщины. У некоторых были
дети за спиной или за пазухой.
Мы не знали, в которую сторону идти: улиц множество и переулков
тоже. С нами толпа народа; спрашиваем по-английски, называем
миссионера по имени — жители указывают на ухо и мотают головой:
“Глухи, дескать, не слышим”. Некоторые, при наших вопросах,
переговорят между собою, и вот один пойдет вперед и выведет нас
к морю. Опять толки, и опять явится провожатый. Один водил,
водил по грязи, наконец повел в перелесок, в густую траву, по
тропинке, совсем спрятавшейся среди кактусов и других кустов, и
вывел на холм, к кладбищу, к тем огромным камням, которые мы
видели с моря и приняли сначала за город. Меня зло взяло.
— Ну теперь вижу, что вы пьяницы и картежники… — ворчал я на
ликейцев.
— Да и мошенники уж кстати, — прибавил другой товарищ, — ведь
они нарочно водят нас.
Третий товарищ смеялся, слыша наш ропот. Наконец один ликеец
привел нас вторично к морю, на отмель, и ушел, как и прочие, в
толпу. Тогда мы насильно вывели одного из толпы за руки и
послали вперед показывать дорогу. Делать было нечего. Он привел
нас к серой, нависшей над водой скале и указал на зеленый,
бывший рядом с ней холм и тропинку в кустах. “Опять вверх!” —
ворчали мы, теряя терпение, и пошли на холм, подошли к
протестантской церкви, потом спустились с холма и очутились у
сада и домика миссионеров. Оказалось, что мы блуждали всё время
около этого места. На нас бросились лаять две большие собаки,
лишь только мы вошли в садик.
Миссионер встретил нас на крыльце и ввел в такую же комнату с
рамой, заклеенной бумагой, как и в ликейских домах. Тут мы
застали шкипера вновь прибывшего английского корабля с женой,
страдающей зубной болью женщиной, но еще молодой и некрасивой;
тут же была жена нового миссионера, тоже молодая и некрасивая,
без передних зубов. В одном только кабинете пастора, наполненном
книгами и рукописями, были два небольших окна со стеклами,
подаренными ему, кажется, человеком Соединенных Штатов. Над
дверью был другой подарок, от него же: большая серебряная ваза.
Всё остальное было более, нежели просто: грубый, деревянный
стол, такие же стулья и диван — не лучше их.
Миссионер предложил нам вина и каких-то сдобных сухарей,
извиняясь, что у него только и есть две рюмки и два стакана. Ему
на другой же день адмирал послал дюжину вина и по дюжине или по
две рюмок и стаканов — пей не хочу! Он нам показывал много
лакированных вещей работы здешних жителей: чашки для кушанья,
поставцы, судки, подносы и т. п.; но после японских вещей в этом
роде на эти и глядеть было нельзя. Беттельгейм просил адмирала
взять несколько вещей от него на память. Что было лучше всего,
так это великолепный баниан у самого крыльца, бросавший тень на
весь дворик, да множество разных кустов и цветов. Жаль только,
что на Лю-чу есть ядовитые змеи. Миссионер сказывал, что он
поймал двух у себя в комнатах. В галерее, выходящей на двор,
помещались небольшая аптека и большая библиотека. Несколько
ликейцев собралось у ворот и заглядывало на нас во двор; но
миссионер махнул им рукой не очень ласково, чтоб они шли прочь.
“Не может забыть побоев!” — шепнул мне один из товарищей.
Миссионер проводил нас назад до самого фрегата на нашей шлюпке.
Дорогой адмирал послал сказать начальнику города, что он желает
видеть его у себя и удивляется, что тот не хочет показаться.
Велено прибавить, что мы пойдем сами в замок видеть их двор. Это
очень подействовало. Чиновник, или секретарь начальника,
отвечал, что если мы имеем сказать что-нибудь важное, так он,
пожалуй, и приедет.
— Очень важное, — сказали ему.
Он хотел быть на другой день, но шел проливной дождь. Наконец
вчера, 7-го февраля, начальник приехал на фрегат с секретарем,
помощником, переводчиком китайского языка и маленькою свитою. Он
был высокий, седой старик, не совсем патриархальной наружности,
с красным носом и вообще — увы, прощай, идиллия! — с следами
сильного невоздержания на лице, с изломанными чертами, синими и
красными жилками на носу и около. Он говорил сиплым и пискливым
голосом. Товарищ его — высокий и здоровый мужчина, лет 50-ти, с
черной, длинной и жидкой, начинающейся с подбородка, как у всех
у них, бородой. Прочие так себе, все здоровой наружности,
свежие. У губернатора пучок на голове был проткнут золотой, у
помощника и переводчика серебряной, а у прочих медной шпилькой.
За первым сидел мальчик лет шестнадцати и беспрестанно набивал
ему трубку, а тот давал ему подачки: бисквиты, наливку, которою
его потчевали. Он подарил адмиралу два каких-то торта, а ему
дали большой самовар, стеклянной посуды и еще прежде послали
сукна на халат за присланную живность и зелень. Показывали ему
японские подарки и, между прочим, подаренную адмиралу саблю.
— А у вас есть сабли? — спросили его.
— Нет.
— Какое же у вас оружие?
— А вот, — отвечал он, показывая веер.
Его поблагодарили за доставку провизии, и особенно быков и рыбы,
и просили доставлять — разумеется, за деньги — вперед русским
судам всё, что понадобится. Между прочим, ему сказано, что так
как на острове добывается соль, то может случиться, что суда
будут заходить за нею, за рисом или другими предметами: так
нельзя ли завести торговлю?
— Нет, нет! у нас производится всего этого только для самих
себя, — с живостью отвечал он, — и то рис едим мы, старшие, а
низший класс питается бобами и другими овощами.
— Да еще мы просим сказать жителям, — продолжали мы, — чтоб они
не бегали от нас: мы им ничего не сделаем.
— Они бегают оттого, что европейцы редко заходят сюда, и наши не
привыкли видеть их. Притом американцы, бывши здесь, брали иногда
с полей горох, бобы: если б один или несколько человек сделали
это, так оно бы ничего, а когда все…
Мы уверили его, что наши не дотронутся ни до чего.
— Да, сделайте милость, — продолжал переводчик, — насчет женщин
тоже… Один американец взял нашу женщину за руку; у нас так
строго на этот счет, что муж, пожалуй, и разведется с нею. От
этого они и бегают от чужих.
Какова нравственность: за руку нельзя взять! В золотой век,
особенно в библейские времена и при Гомере, было на этот счет
проще!
Мы съехали после обеда на берег, лениво и задумчиво бродили по
лесам, или, лучше сказать, по садам, зашли куда-то в сторону,
нашли холм между кедрами, полежали на траве, зашли в кумирню,
напились воды из колодца, а вечером пили чай на берегу, под
навесом мирт и папирусов, — словом, провели вечер совершенно
идиллически.
Погода здесь во всё время нашего пребывания была непостоянная:
то дует северный муссон, иногда свежий до степени шторма, то
идет проливной, безотрадный дождь. Зато чуть проглянет солнце —
всё становится так прозрачно, ясно, так млеет в радости… У
нас, однако ж, было довольно дурной погоды — такой уж февраль
здесь.
С кораблем, везущим эмигрантов, всё истории. Третьего дня он
стал было сниматься с якоря и сел на мель. С наших судов подали
ему немедленную помощь: не будь этого, он бы скоро не снялся и
при первом свежем ветре разбился бы в щепы; он и сам
засвидетельствовал это. Наши ездили туда на корабль и
рассказывают, что такой нечистоты, неурядицы, шума, хаоса и
представить себе нельзя. Корабль большой, а матросов всего
человек двадцать, и то инвалиды. Едва достает рук управляться с
парусами, а толпящиеся на палубе китайцы мешают им пошевелиться.
Крик и шум так велики, что слышно у нас. Чтоб облегчить судно и
помочь ему сняться с мели, всех китайцев и китаянок перевезли
часа на два к нам. Их поместили на баке и шкафуте и отгородили
веревкой. Много очень высоких и хорошо сложенных мужчин. Женщины
большею частью молодые и всё девицы, от четырнадцати до двадцати
лет. Одна обращала на себя особенное внимание. Она, как кажется,
была тут старшая, вроде начальницы, как и у мужчин были тоже
старшины. Звали ее Ача. Она нехороша собой, но лицо, однако ж,
привлекательно. Она была бойкая женщина и говорила по-английски
почти как англичанка. На ней было широкое и длинное шелковое
голубое платье, надетое как-то на плечо, вроде цыганской шали,
белые чистые шаровары; прекрасная, маленькая, но не до
уродливости нога, обутая по-европейски. Она сидела на станке
пушки, бойко глядела вокруг и беспрестанно кокетничала ногой,
выставляя ее напоказ. Прочие женщины сидели в куче на полу.
Мужчины, которых было гораздо больше, толпились, как стадо. Мы
расспрашивали Ачу, где она выучилась по-английски и зачем едет в
Калифорнию. Она сказала, что едет обратно, что прожила уж три
года в Сан-Франциско; теперь ездила на четыре месяца в Гонконг
навербовать женщин для какого-то магазина… Мужчины ехали для
грубых работ.
Наконец корабль сошел с мели, и китайцев увезли обратно. Он,
однако ж, не ушел за противным ветром.
Третьего дня оба миссионера явились в белых холстинных шляпах, в
белых галстухах и в черных фраках, очень серьезные, и сказали,
что они имеют сообщить что-то важное. “На купеческом судне
китайцы не слушаются шкипера”, — объявили они и просили
потребовать китайских старшин и спросить, чем они недовольны. По
вызову адмирала явились трое китайцев, нарядно одетые,
благовидной наружности. Они сказали, что им отказывают в воде;
что когда они подходили к бочке, матросы кулаками толкали их
прочь. “От этого вышли ссоры, — прибавили они, — и больше
ничего”. Им представили всю опасность их положения, если б они
не исполняли требований шкипера, прибавив, что в море надо без
рассуждений делать всё, чего он потребует.
— Так, знаем, — отвечали они, — мы просим только раздавать
сколько следует воды, а он дает мало, без всякого порядка; бочки
у него текут, вода пропадает, а он, отсюда до Золотой горы
(Калифорнии), никуда не хочет заходить, между тем мы заплатили
деньги за переезд по семидесяти долларов с человека.
Их помирили, заставив китайцев подписать условие слушаться, а
шкиперу посоветовали завести побольше порядка и воды, да не идти
прямо в Сан-Франциско, а зайти на Сандвичевы острова. Так и
расстались с ними. Вечером видели еще, как Ача прогуливалась с
своими подчиненными по берегу. Третьего дня корабль ушел; шкипер
и миссионеры не знали, как и благодарить начальство нашего
судна. Наши матросы помогли ему сняться и с якоря: он один не
управился бы. Когда эта громада, битком набитая народом,
нечистая, некрашеная, в беспорядке, как наружном, так и
внутреннем, тихо неслась мимо нас, мы стояли наверху и следили
за ней глазами.
— Дойдет ли? — сказал я с сомнением.
— Дойдет, — с уверенностью отвечал стоявший подле меня матрос,
сильно ударяя на о, — отчего не дойти, дойдет!
Вчера, 8-го, и мы в последний раз съехали на берег. Романтики,
взяв по бутерброду, отправились с раннего утра, другие в
полдень, я, с капитаном Лосевым, после обеда, и все разбрелись
по острову. Мы не пошли ни в деревню Бо-Тсунг, ни на большую
дорогу, а взяли налево, прорезали рощу и очутились в
обработанных полях, идущих неровно, холмами, во все стороны. С
одного холма мы любовались окрестностью; мы очутились как будто
среди зеленого волнующегося моря: ничего кругом, кроме зелени.
Мы шли по тропинкам, мимо возделанных полей, бедных хижин,
состоявших из бамбуковых загородок. Кругом их огороды. У хижин,
на рогожках, кучами лежали овощи и сушились на солнце, между
прочим табак, назначенный для жвачки. Табак здесь очень хорош:
он несколько крепче и темнее японского; тот чересчур нежен и
слаб. Мы шли одни. Сначала за нами по улице следила толпа
каких-то провожатых, но они кинули нас, лишь только мы
поворотили в поля. Тропинки шли то вверх, на холмы, то
спускались в овраги. Жар заставил нас оставить поля и искать
тени в густых аллеях. Мы вошли в переулки деревенек — везде одно
и то же. Жители пугались менее прежнего; ребятишки с улыбкой
кланялись в пояс, заигрывали и вдруг с хохотом разбегались в
стороны, лишь только тронешь одного.
Мы вышли к большому монастырю, в главную аллею, которая ведет в
столицу, и сели там на парапете моста. Дорога эта оживлена
особенным движением: беспрестанно идут с ношами овощей взад и
вперед или ведут лошадей с перекинутыми через спину кулями риса,
с папушами табаку и т. п. Лошади фыркали и пятились от нас. В
полях везде работают. Мы пошли на сахарную плантацию. Она
отделялась от большой дороги полями с рисом, которые были
наполнены водой и походили на пруды с зеленой, стоячей водой.
Мы обошли поле сахарного тростника вокруг. Он растет слишком
часто; в других местах его сажают реже. Он высок, как добрый
кустарник. Тут же его резали и таскали на ближайший холм в
пресс, приводимый в движение быком. За тростником я увидел кучу
народа. “Что там такое делается?” — спросили мы друг друга.
Пригляделись и видим, что двое наших матросов взяли из рук
ликейцев инструмент, вроде согнутого под прямым углом заступа, и
преусердно взрывали им гряды с сладким картофелем. Комы земли и
картофель так и летели по сторонам, а ликейцы, окружив их,
смотрели внимательно на работу.
“Вот, ишь ты! вот! вот!” — слышалось при каждом ударе.
Мы отправились на холм, где были вчера, к кумирне. По дороге
встретили толпу крестьян с прекрасными, темными и гладкими,
претолстыми бамбуковыми жердями, на которых таскают тяжести.
Мне хотелось поближе разглядеть такую жердь. Я протянул к одному
руку, чтоб взять у него бамбук, но вся толпа вдруг смутилась.
Ликейцы краснели, делали глупые рожи, глядели один на другого и
пятились. Так и не дали.
Я не знаю, с чем сравнить у нас бамбук, относительно пользы,
какую он приносит там, где родится. Каких услуг не оказывает он
человеку! чего не делают из него или им! Разве береза наша
может, и то куда не вполне, стать с ним рядом. Нельзя перечесть,
как и где употребляют его. Из него строят заборы, плетни, стены
домов, лодки, делают множество посуды, разные мелочи, зонтики,
вееры, трости и проч.; им бьют по пяткам; наконец его едят в
варенье, вроде инбирного, которое делают из молодых веток.
Едва мы взошли на холм и сели в какой-то беседке, предшествующей
кумирне, как вдруг тут же, откуда-то из чащи, выполз ликеец,
сорвал в палисаднике ближайшего дома два цветка шиповника, потом
сжался, в знак уважения к нам, в комок и поднес нам с поклоном.
Он, конечно, имел приказание следить за нами издалека. Еще к нам
пришел из дома мальчик, лет двенадцати, и оба они сели перед
нами на пятках и рассматривали пристально нас, платья наши,
вещи. Лосев вынул записную книжку, а я нарисовал в ней фигуру
мальчика, вырвал рисунок из книжки и отдал ему. Что это за
рисунок! Моему рисовальному учителю, конечно, и в голову не
приходило, чтоб я показывал свое искусство на Ликейских
островах. Мальчик был в восторге. Мы дали им сигар, отдали
огниво, сверх того я дал старшему доллар. Он вынул из-за пазухи
каш (маленькую медную китайскую монету) и смотрел то на нее, то
на доллар. Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе
тысяча четыреста. Ни в Китае, ни у них другой монеты не водится.
Американцы стали вводить испанские доллары в употребление. Мы
долларами платили в Китае за провизию. Мальчик принес в
маленьком чайнике чаю, который, впрочем, не имел никакого вкуса.
Мы посидели с полчаса в беседке, окруженной рядом высоких
померанцевых и других дерев, из породы мирт.
Уже вечерело, когда мы вышли на большую дорогу. Здесь встретил
нас Унковский и подговорил ехать с ним в вельботе, который ждал
его в Напе. “Недалеко”, — сказал он. Мы пошли налево, через
другой мост, через лес, поле, наконец по улицам — конца не было.
Идучи мимо этих полей, где прорыты канавки, сделаны стоки, глядя
на эту правильность и порядок, вы примете остров за образцовую
ферму или отлично устроенное помещичье имение. В полях и из
некоторых домов несло, как в Китае, удобрением, которое
заготовляется в ушатах. Удобрение это состоит из всякого рода
нечистот, которые сливаются в особые места, гниют, и потом, при
посевах, ими поливают поля, как я видел в Китае. Говорят, это
лучше нашего способа удобрения. “Сорных трав меньше”, — сказал
Лосев, большой агроном.
Мы шли, шли в темноте, а проклятые улицы не кончались: всё
заборы да сады. Ликейцы, как тени, неслышно скользили во мраке.
Нас провожал тот же самый, который принес нам цветы. Где было
грязно или острые кораллы мешали свободно ступать, он вел меня
под руку, обводил мимо луж, которые, видно, знал наизусть. К
несчастью, мы не туда попали, и, если б не провожатый, мы
проблуждали бы целую ночь. Наконец добрались до речки, до
вельбота, и вздохнули свободно, когда выехали в открытое море.
Адмирал хотел отдать визит напакианскому губернатору, но он у
себя принять не мог, а дал знать, что примет, если угодно, в
правительственном доме. Он отговаривался тем, что у них частные
сношения с иностранцами запрещены. Этим же объясняется, почему
не хотел принять нас и нагасакский губернатор иначе как в
казенном доме.
Но довольно Ликейских островов и о Ликейских островах, довольно
и для меня и для вас! Если захотите знать подробнее долготу,
широту места, пространство, число островов, не поленитесь сами
взглянуть на карту, а о нравах жителей, об обычаях, о
произведениях, об истории — прочтите у Бичи, у Бельчера. Помните
условие: я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что
переживаю изо дня в день.
Сегодня мы ушли и вот качаемся теперь в Тихом океане; но если б
и остались здесь, едва ли бы я собрался на берег. Одна природа
да животная, хотя и своеобразная, жизнь, не наполнят человека,
не поглотят внимания: остается большая пустота. Для того даже,
чтобы испытывать глубже новое, не похожее ни на что свое, нужно,
чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой,
развитой жизни.
читать далее>>
Скачать произведение
в формате .doc (789КБ)
R.W.S. Media Group © 2002-2018 Все права защищены и принадлежат их законным владельцам.
При использовании (полном или частичном) любых материалов сайта — ссылка на gumfak.ru обязательна. Контент регулярно отслеживается. При создании сайта часть материала взята из открытых источников, а также прислана посетителями сайта. В случае, если какие-либо материалы использованы без разрешения автора, просьба сообщить.
Обновлено: 09.01.2023

Прочитайте текст и выполните задания 1 — 3
(1)В 1986 году группой японских аквалангистов, проводивших исследования у острова Йонагуни, были замечены под водой загадочные массивные объекты: несколько пирамид, десятки террас и ровных, гладких платформ разной величины. (2)Известный сейсмолог и геолог профессор Масааки Кимура посвятил изучению объектов Йонагуни больше десяти лет и в результате пришёл к выводу, что комплекс Йонагуни представляет собой рукотворный мегалит – древнее культовое сооружение ранее неизвестной цивилизации, ушедшее под воду в результате природного катаклизма, вероятнее всего мощнейшего землетрясения. (3) если выводы Кимура верны, то учёным придётся пересмотреть сложившуюся на сегодняшний день картину развития человечества.
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Известный сейсмолог и геолог Масааки Кимура, профессор университета Рюкю, на протяжении десяти лет исследовал обнаруженный в 1986 году подводный мегалитический комплекс Йонагуни.
2) В 1986 году японскими аквалангистами около острова Йонагуни были обнаружены подводные пирамиды, террасы и платформы разной величины.
3) Учёным придётся пересмотреть картину развития человечества, если, в соответствии с выводами профессора Кимура, найденный у острова Йонагуни подводный объект — затонувшее древнее культовое сооружение ранее неизвестной цивилизации.
4) Обнаруженный под водой у острова Йонагуни подводный объект в результате исследований профессора Кимура стал известен широкой общественности.
5) Если выводы Кимура верны и найденный у острова Йонагуни подводный объект — затонувший рукотворный мегалит, то учёным придётся пересмотреть свои взгляды на историю человечества.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово.
Несмотря на это,
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КАРТИНА. Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
КАРТИНА, -ы, ж.
1) Произведение живописи. Картины русских художников.
2) Изображение чего-н. в художественном произведении. К. крестьянского быта.
3) Вид, состояние, положение чего-н., представление о чём-либо (книжн.) К. запустения. К. ясная, нужно действовать.
4) Подразделения акта в драме. Пьеса в трёх действиях, семи картинах.
4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите это слово правильно.
Общаясь со своими новыми знакомыми – молодыми учёными, Суханов вскоре стал понимать, насколько ОГРАНИЧЕН круг его знаний о мире.
Заявки на участие в ОТБОРОЧНОМ туре принимаются до середины июня.
Как человек БЫВАЛЫЙ и осторожный, капитан ни словом не обмолвился о догадке и сделал вид, словно ничего не случилось.
Совсем близко, у лестницы, раздался приятный, ЗВУЧНЫЙ голос незнакомого мужчины.
Вскоре между новыми сослуживцами установились дружеские, ДОВЕРЧИВЫЕ отношения.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
с ДВУХСТАМИ заказчиками
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка.
А) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым
В) ошибка в построении предложения с однородными членами
Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом
Д) нарушение построения предложения с причастным оборотом
2) Язык Ахматовой отличается своеобразной сухостью, аскетизмом, отсутствием вычурности.
3) Закончив самостоятельную работу, тетради были сданы учителю.
4) Те, кто на предыдущем собрании негативно отзывался о работе нового управляющего, в этот раз не явился.
6) Александр Блок подготовил к изданию собрание своих стихов, в котором стихотворения публиковались не в хронологическом порядке, а согласно особой внутренней логике лирического повествования.
Реальное и фантастическое всегда сосуществуют в творчестве Гоголя.
9) Грушницкий был из числа людей, имеющим на все случаи жизни готовые пышные фразы.
8. Определите слово, в котором пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
не..говорчив, во..дал (должное)
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
Мальчишка, (НЕ)ЗАМЕЧАЯ ничего вокруг, продолжал строить свои замки из песка.
Люся отвечала на вопросы отца бессвязно, (НЕ)ВРАЗУМИТЕЛЬНО.
Среди мрачных, ещё (НЕ)ОДЕТЫХ листвой деревьев этот кустик с зелёными листочками казался чудом.
Птенец хоть и (НЕ)СОВСЕМ окреп, но уже пытался летать.
Слушать заново ту же самую историю мне было вовсе (НЕ)ИНТЕРЕСНО, поэтому я пожелал всем доброй ночи и отправился в свою комнату.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ трёх часов Мишка с Борькой жарко спорили о том, (ЗА)ЧЕМ на телеграфных столбах нарисованы цифры и что они значат.
Солнце на севере не светит, а БУД(ТО) (С)ЛЕГКА просвечивает через полупрозрачное толстое стекло.
Трудно объяснить, (ОТ)КУДА берутся (КОЕ)КАКИЕ привычки.
Левитан ТАК(ЖЕ), как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени – самого дорогого и (МИМО)ЛЁТНОГО времени года.
За столы, на которых стояли десятки приборов и ёмкости (НА)ПОДОБИЕ кувшинов, садились лишь (ПО)ДВОЕ.
14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
Дину встретил весе(1)ий апрельский день – с остатками снега по обочинам дороги, с залепле(2)ыми дорожной слякотью машинами, с синим, в рва(3)ых облаках небом: обычный петербургский апрельский ветре(4)ый день.
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Через открытое окно доносились то гудки паровозов то лай собак.
2) Миша не расслышал вопроса или не захотел на него отвечать.
3) Писатели и журналисты широко используют пословицы и поговорки в своих произведениях.
4) Кистью Айвазовского двигало неуёмное желание подарить миру новые поэмы о величественной борьбе человека со стихией и о неизведанной красоте лучезарного моря о родных просторах и о далёких побережьях.
5) Весна выдалась сухая тёплая и лишь изредка выпадали короткие дожди.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Едва (1) поднявшееся над горизонтом (2) солнце (3) разрывая густую завесу туч (4) пронизывало морские волны золотым сиянием.
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Плакал (1) может (2) быть (3) о сыне,
О жене, о чём ином,
О себе, что знал: отныне
Плакать некому о нём.
Должен был солдат и в горе
Закусить и отдохнуть,
Потому (4) друзья (5) что вскоре
Ждал его далёкий путь.
(А. Т. Твардовский)
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Большой пароход (1) в ожидании (2) которого (3) ребятня с раннего утра толпилась на пристани (4) причалил к берегу под громкий свист и восторженные крики встречавших.
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Василий вошёл в многолюдный парк (1) и (2) хотя он понимал (3) что не всё в его жизни на сегодняшний день идёт гладко (4) но сегодня ему хотелось улыбаться (5) и думать только о хорошем.
20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Прочитайте текст и выполните задания 21 – 26
Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и озерная вода становилась черной.
(1)Без сомнения, старость – это ступень нашей жизни, имеющая, как и любая другая её ступень, своё собственное лицо, собственную атмосферу, собственные радости и горести. (2)Поверьте: у нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших младших собратьев, своя цель, придающая смысл нашему существованию. (3)Быть старым – такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым. (4)Старик, которому старость и седины только ненавистны и страшны, такой же недостойный представитель своей ступени жизни, как молодой и сильный, который ненавидит своё занятие и каждодневный труд и старается от них увильнуть.
(7)Гонимые желаниями, мечтами, страстями, мы, как большинство людей, мчались через недели, месяцы, годы и десятилетия нашей жизни, бурно переживая удачи и разочарования, – а сегодня, осторожно листая большую иллюстрированную книгу нашей собственной жизни, мы удивляемся тому, как прекрасно и славно уйти от этой гонки и отдаться жизни созерцательной. (8)Мы делаемся спокойнее, снисходительнее, и чем меньше становится наша потребность вмешиваться и действовать, тем больше становится наша способность присматриваться и прислушиваться к светлой и ясной жизни природы и к жизни наших собратьев, наблюдая за её ходом без критики и не переставая удивляться её разнообразию, иногда с участием и тихой грустью, иногда со смехом, чистой радостью, с юмором.
(16)Когда совсем молодые люди с превосходством их силы и наивности смеются у нас за спиной, находя смешными нашу тяжёлую походку и наши жилистые шеи, мы вспоминаем, как, обладая такой же силой и такой же наивностью, смеялись когда-то и мы. (17)Только теперь мы вовсе не кажемся себе побеждёнными и побитыми, а радуемся тому, что переросли эту ступень жизни и стали немного умней и терпимей. (18)Чего и вам желаем.
(по по Г. Гессе*)
* Герман Гессе (1877–1962) – немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии.
1) Старость – это не повод отказываться от труда и уходить на пенсию: нужно продолжать работать, любить своё каждодневное занятие и отдаваться ему со всей душой.
2) Большинство людей мчится по жизни в погоне за желаниями, мечтами, страстями, принимая близко к сердцу удачи и разочарования.
3) В старости у людей появляется много свободного времени, поэтому им легче обучать молодое поколение, делиться опытом.
4) Рассказчик ранее не был знаком с той женщиной, с которой он встретился, когда развёл костёр в своём саду.
5) Практически все старые люди любят говорить о болезнях, жаловаться на свои болячки и очень обижаются, когда их не хотят слушать.
1) Предложение 3 противопоставлено по смыслу предложению 2.
2) В предложениях 5–6 представлено рассуждение.
3) В предложениях 9–11 представлено повествование.
4) В предложениях 12–13 представлено описание.
5) В предложениях 17–18 представлено повествование.
23. Из предложений 2–3 выпишите антонимы (антонимическую пару).
24. Среди предложений 9–15 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного наречия. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
25. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.
6) восклицательные предложения
26. Напишите сочинение по прочитанному тексту.
1. Ответ: 35|53.
2. Ответ: такимобразом
4. Ответ: черпать
5. Ответ: доверительные
6. Ответ: двумястами
7. Ответ: 54139
8. Ответ: реалистичный
9. Ответ: призналбоеприпас|боеприпаспризнал
10. Ответ: рулевой
11. Ответ: мечешься
12. Ответ: невразумительно
13. Ответ: будтослегка|слегкабудто
14. Ответ: 12|21
15. Ответ: 14|41
16. Ответ: 34|43
17. Ответ: 1345
18. Ответ: 14|41
19. Ответ: 134
20. Ответ: мокрую|мокрая
21. Ответ: 24|42
22. Ответ: 23|32
23. Ответ: 14
25. Ответ: 7125
Основные проблемы
Позиция автора
1. Проблема отношения к старости.
(Как нужно относиться к старости?)
1. Старость — необходимая ступень жизни, у неё есть своя красота и смысл. Нужно уметь принять старость, а не бояться или ненавидеть её.
2. Проблема отношения старых людей к своим болезням и несчастьям. (Как в старости относиться к своим болезням и бедам?)
2. Нужно со здоровой иронией отно-ситься к горестям и болезням, которые настигают человека в старости.
3. Проблема отношения молодого поколения к старым людям (людям престарелого возраста). (Как молодому поколению нужно относиться к людям преклонного возраста?)
Читайте также:
- Сочинение на тему интерьер в имении лопухиных
- Напишите сочинение рассуждение объясните как вы понимаете смысл высказывания
- Работа ресторатора маленькое сочинение
- Сочинение про тренера по самбо
- История одной профессии сочинение
— Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить? — спросил Райский после обеда, когда они остались в беседке.
— Да, а как же? Чего же мне еще? — спросил с удивлением Леонтий.
— Ничего тебе не хочется, никуда не тянет тебя? Не просит голова свободы, простора? Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи — все вон этот забор, вдали — вот этот купол церкви, дома… под носом…
— А под носом — вон что! — Леонтий указал на книги, мало, что ли? Книги, ученики… жена в придачу, — он засмеялся, — да душевный мир… Чего больше?
— Книги? Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело; люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, в нравах; наконец привести в порядок и общественное хозяйство… А он глядит в книгу, а не в жизнь!
— Чего нет в этих книгах, того и в жизни нет или не нужно! — торжественно решил Леонтий. — Вся программа, и общественной и единичной жизни, у нас позади: все образцы даны нам. Умей напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только — и будешь знать, что делать. Позади найдешь образцы форм и политических и общественных порядков. И лично для себя то же самое: кто ты: полководец, писатель, сенатор, консул, или невольник, или школьный мастер, или жрец? Смотри: вот они все живые здесь — в этих книгах. Учи их жизнь и живи, учи их ошибки и избегай, учи их добродетели и, если можно, подражай. Да трудно! Мы и давай выдумывать какую-то свою, новую жизнь! Вот отчего мне никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось: не верю я в этих нынешних великих людей….
Он говорил с жаром, и черты лица у самого у него сделались, как у тех героев, о которых он говорил.
— Стало быть, по-твоему, жизнь там и кончилась, а это все не жизнь? Ты не веришь в развитие, в прогресс?
— Как не верить, верю! Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет: все это приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмысленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять колоссальные фигуры, опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впоследствии образует вторую древность. Как не веровать в прогресс! Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия. Низость, мелочи, дрянь — все побледнеет: выправится человек и опять встанет на железные ноги… Вот и прогресс!
— Ты все тот же старый студент, Леонтий! Все нянчишься с отжившей жизнью, а о себе не подумаешь, кто ты сам?
— Кто? — повторил Козлов, — учитель латинского и греческого языков. Я так же нянчусь с этими отжившими людьми, как ты с своими никогда не жившими идеалами и образами.
Обращусь опять к своему вопросу: ужели тебе не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятий?
Козлов отрицательно покачал головой.
— Помилуй, Леонтий; ты ничего не делаешь для своего времени, ты пятишься, как рак. Оставим римлян и греков — они сделали свое. Будем же делать и мы, чтоб разбудить это (он указал вокруг на спящие улицы, сады и дома). Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя!
— Как же это сделать?
— Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале, а ты…
— Я… тоже кое-что делаю: несколько поколений к университету приготовил… — робко заметил Козлов и остановился, сомневаясь, заслуга ли это?
— Хорошо, да все это не настоящая жизнь, — сказал Райский, — так жить теперь нельзя. Многое умерло из того, что было, и многое родилось, чего не ведали твои греки и римляне. Нужны образцы современной жизни, очеловечивания себя и всего около себя. Это задача каждого из нас…
— Ну, за это я не берусь: довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, им, как видишь, лапшу… Что же делать?.. — Он задумался.
— Жизнь «для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба. А ты хочешь жить барашком!
— Я уж сказал тебе, что я делаю свое дело и ничего звать не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогает!
Проблемы к тексту Гончарова, диалог Райского и Козлова о различных взглядах на жизнь, о переменах.
- Как должен жить человек?
Пример сочинения ЕГЭ по тексту И.А. Гончарова «Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить?»
Как должен жить человек? Именно этот вопрос волнует автора предложенного для анализа текста.
И.А. Гончаров раскрывает проблему, предлагая читателям стать невидимыми участниками спора двух героев – Райского и Козлова. Леонтий Козлов является сторонником принципа «жить про себя и для себя». Он считает, что общество утратило связь с предками: современный человек потерял «дорогу», утратил «секреты» предков. В современном мире осталась лишь «низость», «мелочи» и «дрянь». Герой не верит в людей, потому предпочитает проводить время за книгами, в которых рассказывается о великих людях, их открытиях, добродетелях. Несмотря на разочарование в обществе, герой все же кое-что сделал для чего – «несколько поколений студентов к университету приготовил». Рассуждения Козлова позволяют читателям сделать выводы о нем, создать «портрет». Мы понимаем, что Козлов -неплохой человек, он работает в сфере образования, готовит студентов, но ему крайне не хватает веры в людей, а без этого невозможно по-настоящему «подготовить» студентов ни к университету, ни к жизни.
Совершенно иначе на жизнь и современное общество смотрит Райский. Даже фамилия его словно «намекает» читателю на его идеалистическую натуру. Райский уверен, что «»для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба». Он называет Козлова «барашком», осуждает его подход к жизни. Он рассуждает о свободе, прогрессе, призывает оппонента «оставить римлян и греков», предлагает «разбудить» общество, вывести его из состояния застоя. Когда же Козлов интересуется тем, как он собирается это сделать, Райский отвечает: «Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале». Все высказывания Райского выглядят пустыми, ведь за его словами не стоят какие-либо действия. Мы понимаем его позицию, даже соглашаемся, но его пространные высказывания не помогают лучше понять, что же именно следует делать. Однако он все же дает рецепт правильной жизни – жить не только для себя, стараться делать мир лучше, способствовать прогрессу. Со справедливостью этих высказываний трудно спорить.
Писатель намеренно используем прием умолчания, чтобы читатель смог сам сделать выводы. На мой взгляд, автор не разделяет ни позицию Козлова, ни позицию Райского.
Мне кажется, что Гончаров пытается донести до читателя мысль о том, что жить нужно деятельно. Нельзя прятаться от реальной жизни в книгах, но и отрицать опыт поколений не стоит. Настоящая жизнь в реальных поступках, свершениях. Не обязательно для этого с кем-то бороться. Нужно стараться улучшать мир вокруг себя, работать на благо общества. Причем делать это не только на словах.
Я разделяю позицию автора. Мне кажется, что спор о том, как нужно жить, можно назвать вечным. Из такого спора никто не выходит победителем. Однако можно сделать один вывод, который будет близок и понятен всем: если мы не действуем, мы не живем. Потому спор Кирсанова и Базарова из романа И.с. Тургенева мы называем вечным, но все же стараемся найти золотую середину: чтим предков, но не забываем о прогрессе. А главное – действуем.
В заключение я хотела бы сказать, что жить можно, конечно, по-разному. Главное, на мой взгляд, ощущать, что живешь не зря. А чтобы это чувствовать, безусловно, нужно делать что-то полезное в жизни. Может быть, не все мы способны менять целый мир, но повлиять на жизнь близких можем.
Сочинение на 25 баллов к тексту Гончарова о жизни с реального ЕГЭ 2022
Для чего нужно жить? На этот вопрос отвечает Иван Александрович Гончаров — русский писатель и литературный критик.
Чтобы привлечь внимание читателя к данной проблеме, автор рассказывает о споре, который произошел между двумя друзьями. Леонтий Козлов считает, что жить нужно для себя: «довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя». Читатель понимает: некоторые люди ведут пассивный образ жизни, не желая ничего делать для благополучия современного общества. «…Никого не трогаю и меня никто не трогает» — добавляет Козлов, подтверждая, что ему никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось…
Также важен фрагмент, в котором высказывает свою точку зрения Райский. Он упрекает друга в том, что он «ничего не делает для своего времени», «пятится, как рак». Райский видит целью своей жизни самосовершенствование, движение вперёд, в будущее. Отрицательно герой высказывается об образе жизни своего друга: «жизнь «для себя и про себя» не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба.». Автор подчёркивает важность прогресса в жизни современного человека: «люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман…» — такой должна быть цель жизни.
Примеры противопоставлены друг другу, чтобы показать, что люди живут для разных целей. Одни стремятся «прожить барашком», не пытаясь изменить свою жизнь в лучшую сторону, а другие становятся образцами для своего поколения.
Позиция автора такова: современный человек не должен жить только ради самого себя, а делать что-то для своего времени. «Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя!» — таким видит автор истинный смысл человеческой жизни.
Я согласна со мнением автора, ведь человек не может жить только для себя. Как часть огромного мира, каждый обязан вносить в него что-то новое, стремиться усовершенствовать окружающее его общества, помочь молодому поколению. Жизненной целью моей бабушки всегда была помощь людям: она работала медсестрой и, несмотря на усталость, боль и истощение, продолжала помогать пациентам. Я горжусь тем, что в моей семье были такие добрые, ответственные и заботливые люди.
В заключение хочется сказать, что человек, который живёт только для себя, едва ли сделает мир вокруг себя лучше, поэтому необходимо задуматься не только о своём комфорте, но и о благополучии нашего мира!
Попался такой текст на ЕГЭ? Пишите в комментариях, какую проблему и аргументы выбрали!


