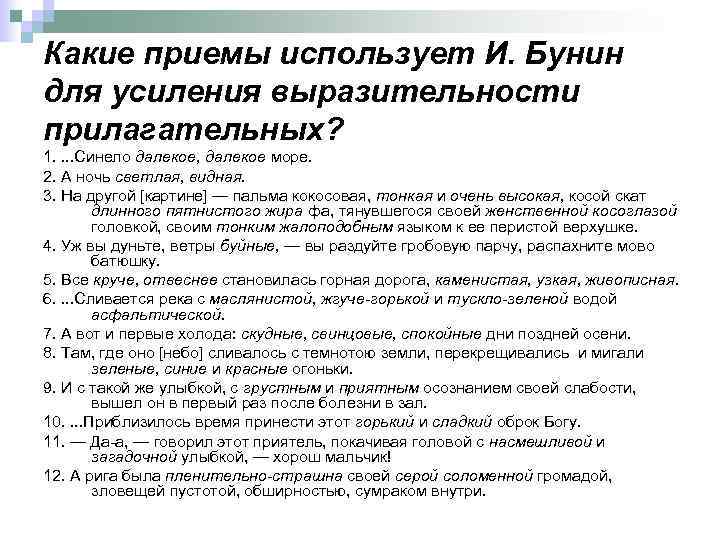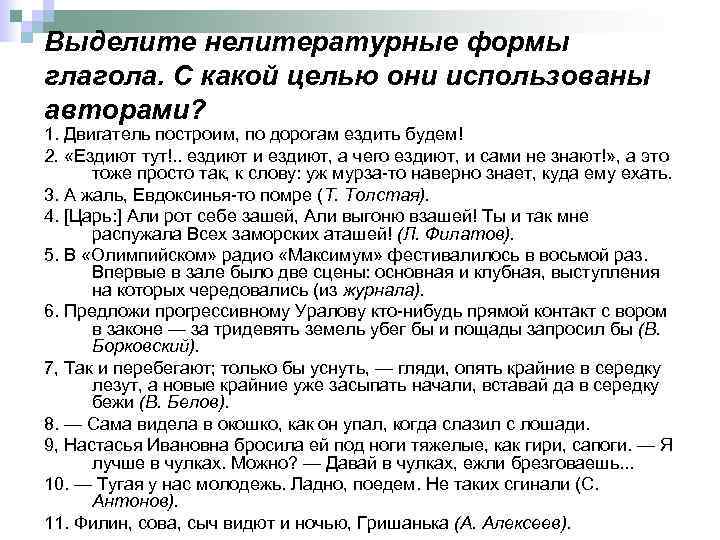VII
Всюду была своя прелесть!
На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами.
В конюшне жили своей особой, лошадиной жизнью, заключавшейся в стояньи и звучном жеваньи сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданьи запряжки, в исполненьи своего странного назначенья на свете – только возить, только бегать… Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.
А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был непохож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко… Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?
Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором. царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель… За горами, за долами, за синими морями… Царь-Девица, Василиса Премудрая…»
А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит но ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединенье – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое заростало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось – сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах, – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю…
VIII
Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине…
В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна, гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие…
После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпалывают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы… Какой это непередаваемо-очаровательный звук, – звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы…
Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушенье уже готового обеда у всех возвращающихся с поля,– у отца, у загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода… В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, – что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь …
IX
Помню поездки к обедне, в Рождество. Тут все необычайно, празднично: кучер в желтой шелковой рубахе и плисовой безрукавке на козлах тарантаса, запряженного тройкой; отец с свежевыбритым подбородком и по городскому одетый, в дворянском картузе с красным околышем, из под которого еще мокро чернеют по старинному, косицами начесанные от висков к бровям волосы, мать в красивом, легком платье со множеством оборок; я, напомаженный, в шелковой рубашечке, с праздничной напряженностью в душе и теле …
В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от новизны, богатства впечатлений: в селе мужицкие дворы все большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами, а под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая и этими лозинами, и сыростью низины, на которой они растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный затонувший в светлых струях мост, на выгоне перед церковью – цветистое многолюдство: девки, бабы, гнутые, гробовые старики в чистых свитках и шляпах-черепенниках.
А в церкви – теснота, теплая, пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости: мы впереди всех, мы так хорошо, умело и чинно молимся, священник после обедни подает нам целовать пахнущий медью крест прежде всех, кланяется подобострастно… Во дворе старика Данилы, ласкового лешего с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и медом, горой наваленным в деревянную миску, и мне на всю жизнь запомнилось, – оскорбило! – что он однажды взял прямо своими черными негнущимися пальцами кусок текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот…
Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка; знал, что задонское именье уже «затрещало», что у нас уже нет его; однако у меня от тех дней все таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек… Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время… Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры … Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это – миры, нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь … Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе: наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных , окрестных полей, родной усадьбы …
Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в Провал, на дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья, отец, все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело – вестей «оттуда» все не было, а когда они пришли, все притихло еще более: оба погибли – и Сенька и лошадь…
Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь «мертвое тело …» Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?
Жизнь Арсеньева
А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит но ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединенье – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое заростало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось – сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах, – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю…
VIII
Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине…
В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна, гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие…
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
VII
Всюду была своя прелесть!
На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами.
В конюшне жили своей особой, лошадиной жизнью, заключавшейся в стояньи и звучном жеваньи сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданьи запряжки, в исполненьи своего странного назначенья на свете – только возить, только бегать… Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.
А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был непохож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко… Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?
Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором. царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель… За горами, за долами, за синими морями… Царь-Девица, Василиса Премудрая…»
А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит но ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединенье – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое заростало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось – сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах, – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю-ю…
VIII
Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине…
В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна, гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие…
После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпалывают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы… Какой это непередаваемо-очаровательный звук, – звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы…
Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушенье уже готового обеда у всех возвращающихся с поля,– у отца, у загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода… В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, – что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь …
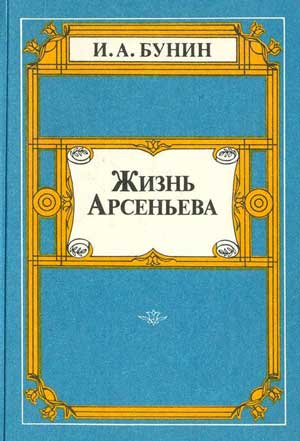
- Полный текст
- Книга первая
- Книга вторая
- Книга третья
- Книга четвертая
- Книга пятая
Но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись подсоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие шершавые и бугристые огурчики, которые так приятно было искать, шурша под бесконечными ползучими плетями, лежавшими на рассыпчатых грядках… На что нам было все это, разве голодны мы были? Нет, конечно, но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Помню: солнце пекло все горячее траву и каменное корыто на дворе, воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то, в самой глубокой и звучной высоте своей, погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и разражаться мощными ударами, да все полновеснее, величавей, великолепнее… О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности! Был потом мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом, все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим, в доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли «страстную» восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» Зато какое облегченье настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо-отрадную сырую свежесть пресыщенных влагой полей, – когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке, за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее! Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его…
А затем, постепенно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, Провал, Выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительная и животная больше всего влекли к себе наше внимание, и все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами – послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам; в нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда (особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутиков и устланных чем-то мягким и теплым, сидело и зорким черным зернышком смотрело что-нибудь пестро окрашенное) да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот – скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне, Провал…
VII
Всюду была своя прелесть!
На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами.
В конюшне жили своей особой лошадиной жизнью, заключавшейся в стоянье и звучном жеванье сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случилось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер, что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданье запряжки, в исполненье своего странного назначения на свете – только возить, только бегать… Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.
А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был не похож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест-накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко… Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель… За горами, за долами, за синими морями… Царь-Девица, Василиса Премудрая…»
А рига была пленительно-страшная своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все-таки черт по ночам прилетал туда, и это соединенье – черта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с обрывистыми скатами и знаменитым «провалом» на дне, которое зарастало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах – малиновый Богородичный Цветок с коричневым липким стеблем! И как горестно-нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка! Тю-тю-тю-тю‑ю…
VIII
Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в Выселки, был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине…
В усадьбе на восходе солнца, с первым щебетаньем птиц в саду, просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит: «Самовар!» Просыпаемся и мы, с радостью от солнечного утра, – других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать, – с нетерпеливым желаньем поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни – наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе, по-утреннему, ново, скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного, дружного табуна гудит земля, меж тем как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах и начинается работа стряпух, смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие… После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя, и тяжело скрипящую соху, на подвои которой лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики, или выпалывают то просо, то картошки несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят, со свистом, размашисто, приседая и раскорячиваясь, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы, а следом за ними работают граблями и, сгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы… Какой это непередаваемо-очаровательный звук – звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмокнутая в воду лопаточка! Всегда есть косец, который непременно восхитит – расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, – днем слишком сухо, сыплется зерно, – и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы…
Много ли таких дней помню я? Очень, очень мало, утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой: жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушенье уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, – у отца, у загорелого, с кудрявой рыжей бородой старосты, крупно и валко едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на возу подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных, зеркально блещущих лошадей, с темных хвостов и грив которых струится вода… В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на возу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из Новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне – что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на возу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы; он, в белом картузе, в батистовой косоворотке, с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей, радостно, любовно улыбаясь…
IX
Помню поездки к обедне, в Рождество.
Морфологические средства стилистики
Вопросы 1. Что такое морфология? — функционирующая система форм словоизменения разных частей речи с присущими им грамматическими категориями. Знаменательные и служебные 2. Какие части речи различает морфология? — 3. Что такое форма слова? — Морфологическая разновидность слова, которая при склонении или спряжении сохраняет ЛЗ, но меняет ГЗ. 4. Назовите ГЗ слова «в озере» . — Ед. ч. , ср. род, предл. пад.
ОБЩИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 1. Грамматическая форма слова соотносит его с той или иной частью речи и обусловливает сочетаемость слова с другими компонентами предложения. В сознании носителя языка существует представление о правильности/неправильности функционирования той или иной части речи. Если ГЗ слова получают неверное с точки зрения этой системы выражение, возникает ощущение неправильности речи: n Красивый село n Эта книга еще книжнее, чем та. 2. Использование словоформы может быть закреплено за тем или иным стилем литературного языка: из леса – из лесу; считалась сиротою; знание, знанье. 3. Использование словоформы может вызывать определенные ассоциации, нужные автору: Иду я вчера, смотрю –яма. 4. У каждой части речи есть свои стилистические возможности.
Имя существительное
I. Нарицательные и собственные А) Переход из собственного в нарицательные: Никакие гитлеры не страшны. Б) Переход из нарицательного в собственное: Не правда, а Правда. В) Создание «говорящих фамилий» : Скалозуб, Манилов. . . Г) Фамилия, соответствующая времени, национальным традициям: Индустрия Павловна; Белое перо, Иванов, Джон Смит. Д) Языковая игра: Фоменко в ритме фламенко. Буш бушует. Е) Неологизм: Виношоукур.
III. Число Ряд слов может выступать только в ед ч. : n собственные: Иван, Лондон; n отвлеченные: грациозность, пение; , n вещественные: соль, бетон; n собирательные : старичьё, молодёжь; + названия месяцев, болезней и т. д. Ряд слов – только во множ. числе: сутки, брюки, очки. 1. Необходимо соблюдать норму. 2. Несоблюдение норм ЛЯ может быть стилистически оправдано.
1. — Эх вы, стеньки разины липовые. . . Свою душу, как персидскую княжну, в водке топите. . . Даже воровать как следует не умеете, — вздохнул Циолковский. 2. Старший шурфовщик Иванович по фамилии Заграничный, который никогда ни в каких заграницах не бывал <. . . > начал беседу о котах. 3. Эти писатели ближе мне, и уже их стремление вмешаться в жизнь заставляет меня с любовью думать о них как о прекрасных донкихотах. 4. Все национализмы бесчеловечны. Верить в свою страну отдельно от человечества нельзя (Е. Евтушенко). 5. Еще он что-то говорил про сберкассу и про свои рабочие руки. Но на него зашикали марины сергеевны и лени голубковы. 6. Появление имени первого космонавта на карте страны даже путем переименования вполне соответствует мировой культурной традиции. И не нужно нам низводить Гагарина и Чкалова в разряд Ждановых. 7. Реорганизаторам невыгодно брать в расчет, что многие действительно сложные проблемы в повседневной деятельности компании возникают в силу объективных экономических причин — от последствий введения валютного коридора до общего состояния многострадальных «северов» , да и всей России (из газет).
II. Род существительных А) Речевая характеристика персонажа. Как твоё фамилие? Тайга там бедный.
Стилистическое использование А) Формы мн. ч. у сущ. Собственных – обобщение: Провожали своих Юриков, Славиков, Димочек. В Парижах бываю и в Боннах. Б) Мн. ч. веществ. сущ. – в научн. стиле — разные сорта: стали, соли, масла. В) Форма ед. ч. конкретных сущ. – для обобщения в определениях и публ. стиле: n Птица летает, а рыба плавает. n Повелено брить им бороду. + другие возможности
IV. Падеж А) Именительный темы: Совесть. . . Что это? Б) Использование вариативных, стилистически маркированных форм: Народа — народу Чая – чаю Синицей – синицею Знанье – знание В) Отступление от норм – речевая характеристика персонажа. Картохи сварила, помидор собрала. Кофем доволен.
1. — И армяны так борются, и азербайджаны. Татары тоже (Ю. Трифонов). 2. Артамонов [секретарь обкома] засмеялся: «Ну, садись, еще по рюмке выпьем да кофею попросим» (А Кочетов). 3. — Ничего ему такого не сказали, никаких замечаньев али неудовольствия не выражали (Т. Толстая). 4. — Помолчи, помолчи, я тебя слушал и репликов тебе не кидал (С. Бабаевский). 5. — Начальство, какое тут изладилось, заготовители эти и сам председатель сельпа Василий Трифонович глядят, затихли, значит. 6. — Вон Иван Африканович в сроки женился, наляпал ребятишек, пальцей не хватает считать. 7. Сегодня сорок дён, как жёнка. . , ну в земле то есть (А Белов). 8. Дядя блеснул глазом-алмазом и хлопнул мальчика по плечу тяжелой, но ласковой рукой. «А ты, однако, летчиком будешь, сына. . . » . Откуда он мог знать, что его «сына» станет не только летчиком, но и космонавтом (Е. Евтушенко). 9. Вся, говорят, в матерь. 10. Сам целый день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо. . . (Ф. Абрамов). 11. И останется в голове одна только серая Масса, и стану я походить на тех замороженных человеков, у которых эта серая масса через глаза просвечивает (С. Антонов).
ИМЯ прилагательное
Стилистическое использование А) Краткая и полная форма: n Проект убыточен по расчетам экономистов. n Проект убычный. Б) Повтор слова усиливает свойство: грустный, грустный день В) Эпитеты: ослепительная красота, огненно-рыжий. Г) Степень сравнения относительных прилагательных – языковая игра: n Его комната была самой картинной из всех.
Какие приемы использует И. Бунин для усиления выразительности прилагательных? 1. . Синело далекое, далекое море. 2. А ночь светлая, видная. 3. На другой [картине] — пальма кокосовая, тонкая и очень высокая, косой скат длинного пятнистого жира фа, тянувшегося своей женственной косоглазой головкой, своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке. 4. Уж вы дуньте, ветры буйные, — вы раздуйте гробовую парчу, распахните мово батюшку. 5. Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. 6. . Сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленой водой асфальтической. 7. А вот и первые холода: скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. 8. Там, где оно [небо] сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. 9. И с такой же улыбкой, с грустным и приятным осознанием своей слабости, вышел он в первый раз после болезни в зал. 10. . Приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк Богу. 11. — Да-а, — говорил этот приятель, покачивая головой с насмешливой и загадочной улыбкой, — хорош мальчик! 12. А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри.
Какую функциональную нагрузку несут выделенные прилагательные в форме сравнительной степени? 1. Не исключено, что на конференции футбольным людям предложат такой вариант. Бог с вами, кто говорит о том, что лига не нужна. Необходима! Внесем лишь коррективы в систему ее управления. Мягше надо, мягше, как говаривал незабвенный Аркадий Райкин, не так, как нынешнее руководство ПФЛ. Кому же не хочется «мягше» ? Но момент истины в том, что «мягше» — это значит в обход закона, по Пути компромиссов, без хирургии (из газеты). 2. И зародилась в те стародавние времена одна ведьма. Трудно сказать, какой она зародилась, писаной красоткой или хитроумной прихохоткой, только она была ведьмее всех ведьм (Е. Пермяк). 3. Орел самодержица /черней, чем раньше, /злей, / орлинее (В. Маяковский). 4. — Ни шута не понял. Глупый-то не я, а ты, Егорий, хоть и прожил на свете поболе мово (А. Алексеев).
ГЛАГОЛ
Стилистическое использование I. ЛИЦО А) Форма 2 лица=1 лица – обобщение: Ходишь, ищешь чего-то. . . Б) О себе в третьем лице: Тебя начальник просит. II. ЧИСЛО Мы, Николай Второй. Тебя начальник просют. III. ВРЕМЯ А) Наст. время вм. прош. — > выразительное описание. Б) Наст. вр. вместо буд. (обычно): Уедешь – а тебя домой манит. В) Пов. накл. вместо буд. врем (условно-предполагаемое действие): Она будет петь, а ты переживай. Использование стилистически маркировнных форм: хошь, гли ты!, выпимши, пекёт, стригёть. . .
Объясните особенности употребления выделенных глаголов. 1. У нас в доме культуры была уборщица. Однажды после моего выступления она подошла и сказала: «Роман, вы очень хороший артист. Но вы слишком пересаливаете лицом» . Вы поняли это? Так могут сказать только в Одессе (Р. Карцев). 2. Не убий, сказано-всем и каждому в Библии. Не убий, сказано мною самому себе после Афгана. 3. — Ой, а куда мы с тобой поедем? А кем я буду работать там? А как же этот? . . — Собир-р-райся!!! — Она собралась. — Не «поедем» , а «поедешь» . Не со мной, а сама по себе. Чем дальше, тем лучше (В. Борковский). 4. Один раз за ней Митька увязался. Вскочить вскочил [на поезд], а спрыгнуть струсил (С. Антонов). 5. — Барышня, вас военный дожидаются, — выпалила Лушка. — Черный, с усами и при букете (Б. Акунин). 6. — «Не допустили» , «хозяева» . Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «Барин на ячейку ушли» (Л. Сейфуллина).
Выделите нелитературные формы глагола. С какой целью они использованы авторами? 1. Двигатель построим, по дорогам ездить будем! 2. «Ездиют тут!. . ездиют и ездиют, а чего ездиют, и сами не знают!» , а это тоже просто так, к слову: уж мурза-то наверно знает, куда ему ехать. 3. А жаль, Евдоксинья-то помре (Т. Толстая). 4. [Царь: ] Али рот себе зашей, Али выгоню взашей! Ты и так мне распужала Всех заморских аташей! (Л. Филатов). 5. В «Олимпийском» радио «Максимум» фестивалилось в восьмой раз. Впервые в зале было две сцены: основная и клубная, выступления на которых чередовались (из журнала). 6. Предложи прогрессивному Уралову кто-нибудь прямой контакт с вором в законе — за тридевять земель убег бы и пощады запросил бы (В. Борковский). 7, Так и перебегают; только бы уснуть, — гляди, опять крайние в середку лезут, а новые крайние уже засыпать начали, вставай да в середку бежи (В. Белов). 8. — Сама видела в окошко, как он упал, когда слазил с лошади. 9, Настасья Ивановна бросила ей под ноги тяжелые, как гири, сапоги. — Я лучше в чулках. Можно? — Давай в чулках, ежли брезговаешь. . . 10. — Тугая у нас молодежь. Ладно, поедем. Не таких сгинали (С. Антонов). 11. Филин, сова, сыч видют и ночью, Гришанька (А. Алексеев).
Отметьте случаи ошибочного управления при глагольных формах. Какому стилю, речи свойственно такое употребление? 1. И тут, зная и веря в неоспоримую полезность того, что показал ему сам доктор Арьев на фронте, он не собирался отступать. . . 2. Было сказано докторам, что они добры «за государственный счет» и что в дальнейшем он будет принужден наказывать тех медработников, которые потакают, швыряются и не блюдут. . . 3. Самым унизительным казалось ему подлизываться перед народом (Ю. Герман). 4. Госпредприятие питает частника, который служит и даже руководит этим предприятием (из журнала). 5. Над всеми измывались цензоры, любимые творения коверкали, сжигали, за писателями следили, ловили, позорили (М. Рощин). 6. Учрежденное при нем [отделе] особое совещание должно было координировать и наблюдать за целесообразностью мер по обеспечению нужд беженцев (из газет). 7. Природа моя была отзывчива на явления жизни, на людские Поступки, но лишь Искусство было и есть моим истинным призванием (А. Нестеров). 8. Только сегодня я доказывал об угрозе людям со стороны именно этой волшебной аэронавтики. . . (В. Пикуль).
Объясните особенности инфинитивной поэзии Устроиться на автобазу И петь про черный пистолет. К старухе матери ни разу Не заглянуть за десять лет. Проездом из Газлей на Юге С канистры кислого вина Одной подруге из Калуги Заделать сдуру пацана. В рыгаловке рагу по средам, Горох с треской по четвергам. Божиться другу за обедом Впаять завгару по рогам. Преодолеть попутный гребень Тридцатилетия. Чём свет Возить «налево» лес и щебень. И петь про черный пистолет. (С. Гандлевский)
ДРУГИЕ ЧАСТИ РЕЧИ
НАРЕЧИЕ 1. — Бабы, вы только поглядите, чего мы привезли! не здря съездили. 2. . Велел всем мужикам к завтрему готовыми быть, чтобы лошади были накормлены. 3. — Косить-то куда нонь, бабицы, за реку? 4. — Ты ведь вроде до Берлина дошел, шампанское с ними глушил, чего они тепериче-то на нас прут? (А Белов). 5. — Она там гдей-то будет петь, а ты сиди, переживай! 6. Чем быстрее гонишь, тем борозда хужей. То глубокая, то мелкая. 7. — С тобой, брат, не заскучаешь! Запустил ракету. Покрепше скоростной механизации (С. Антонов). 8. Рубаха на нем белая, враспояску. Порты широкие, книзу-то пошире. На ногах—лапти домашние (Т. Толстая)? 9. Я за линию твою В Соловках табе Сгною! Я с тобою не шуткую, Я сурьезно говорю! (Л. Филатов).
МЕСТОИМЕНИЕ А) ТЫ-ВЫ Б) Прикажи – Ты прикажи (мягче). В) МЫ=Я – объединение с читателями (худ. , научн. , публ. ) Г) МЫ=ВЫ — врач – сочувствие: Как мы себя чувствуем? Д) Художественное обобщение: мы, свои, оно, эти (прост. ) Е) Речевая характеристика персонажа, если ошибочное употребление: ихние, про чего.
Определите стилистическую роль выделенных местоимений 1. — И чего господин Половцев думают, чего они дожидаются, ума не приложу! Самое время бы сейчас качнуть Советскую власть, а они прохлаждаются (Л/. Шолохов). 2. Зашуршало, двери отворилися — и выходит Сам. Папенька Оленькин (Т. Толстая). 3 — Она с моей бабой недавно на слете была, дак оне там по отрезу по самолучшему отхватили. 4. — Летом кажин кустик ночевать пустит. 5. — Да вон и окурки евонные накиданы (В. Белов). 6. — Ох, да при ейной-то жизни не то дивья, что спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. 7. — Горло, наверно, сухое. — У ей самая трезвость сичас (Ф. Абрамов). 8. Надо было убедить их [крестьян] (моя хата с краю, я ничего не знаю), что «мы» — это лучше, чем «я» , и что радостно приобщиться к великой силе коллектива (В. Солоухин).
ПРЕДЛОГИ, ЧАСТИЦЫ А) Использование стилистически маркированных предлогов и частиц: Предо (выс. ), округ, окрест (уст. ), документ о 12 листах (выс. ), про любовь (разг), с Москвы (прост). Ишь ты! Вишь ты! Аж, то бишь, -ка, ведь, – разг. (же-ж, бы-б, да нет — та не) Б) По возвращению из командировки. В) Повтор предлогов, союзов – эмоциональный настрой всего текста.
Укажите на нелитературное использование частиц 1. — Может, самовары-то взять да починить? — спросила Степановна! — Ей-богу, возьми самоварыто! Саша Пятак в кузнице кранты-ти припаяет. 2. —Читал, Петров, сегодня газету-то? —спрашивает Куров Мишку. — Опеть, чуешь, буржуазники-те шалят с бонбой. 3. —Я к примеру, в ТОЗ-от вступил без твоего нагана. А вы с Табаковым ТОЗ-от распустили, а сделали из него артель (В. Белов). 4. [Нянька: ] Как же, помню! Энтот гранд Был пожрать большой талант: С головою влез в тарелку, Аж заляпал жиром бант (Л. Филатов).
Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданьи запряжки, в исполненьи своего странного назначенья на свете – только возить, только бегать… Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.
А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был непохож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая, ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко, далеко… Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь?
Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, «что Бог дал», – только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном. «В некотором. царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель… За горами, за долами, за синими морями… Царь-Девица, Василиса Премудрая…»
А рига была пленительно-страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что, если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит но ней, носится вокруг нее ветер; там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все таки чорт по ночам прилетал туда, и это соединенье – чорта и столь грозной для него дощечки – внушало особенно жуткие мысли. А Провал был дальше, за ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным полем.
1<<789>>148
В тексте попалась красивая цитата? Добавьте её в коллекцию цитат!