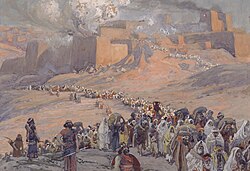Направление в литературе и искусстве проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее
Ответ на вопрос «Направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX века, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах «, 9 (девять) букв:
Символизм
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова символизм
Определение слова символизм в словарях
Википедия Значение слова в словаре Википедия
Символи́зм — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи ), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально.
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова. Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
М. Направление в искусстве и литературе конца XIX в. — начала XX в., объявившее основным художественным приемом символ как выразитель непостижимой сущности предметов и явлений. м. То же, что: символика (1).
Примеры употребления слова символизм в литературе.
Гумилев объявил акмеизм органично-достойным и законным наследником лучшего, что дал символизм, но имеющего собственные духовно-эстетические основания — верность живописно-зримому миру, его пластической предметности, повышенное внимание к стихотворной технике, строгий вкус, цветущая праздничность жизни.
Кузьмин — Караваев выступили в Обществе ревнителей художественного слова, заявив об отделении акмеизма 01 символизма.
Это было время, когда литературная жизнь столицы переживала повальное увлечение модернизмом всех оттенков: от агонизирующего символизма до акмеизма и футуризма, дебютировавших на литературной арене.
Наша цель — еще раз напомнить то, что писалось выше, в главе 10, о символизме мужского и женского, в частности, о мужской природе Закона.
Йитс не разделял их эстетику декаданса, но именно они приобщили его к поэзии европейского символизма, к Бодлеру, Верлену и Рембо.
Направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX века, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах
Ответ на вопрос «Направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX века, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах «, 9 (девять) букв:
Символизм
Википедия Значение слова в словаре Википедия
Символи́зм — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи ), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально.
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова. Значение слова в словаре Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.
М. Направление в искусстве и литературе конца XIX в. — начала XX в., объявившее основным художественным приемом символ как выразитель непостижимой сущности предметов и явлений. м. То же, что: символика (1).
Примеры употребления слова символизм в литературе.
Гумилев объявил акмеизм органично-достойным и законным наследником лучшего, что дал символизм, но имеющего собственные духовно-эстетические основания — верность живописно-зримому миру, его пластической предметности, повышенное внимание к стихотворной технике, строгий вкус, цветущая праздничность жизни.
Кузьмин — Караваев выступили в Обществе ревнителей художественного слова, заявив об отделении акмеизма 01 символизма.
Это было время, когда литературная жизнь столицы переживала повальное увлечение модернизмом всех оттенков: от агонизирующего символизма до акмеизма и футуризма, дебютировавших на литературной арене.
Наша цель — еще раз напомнить то, что писалось выше, в главе 10, о символизме мужского и женского, в частности, о мужской природе Закона.
Йитс не разделял их эстетику декаданса, но именно они приобщили его к поэзии европейского символизма, к Бодлеру, Верлену и Рембо.
Википедия Значение слова в словаре Википедия Символи́зм одно из крупнейших направлений в искусстве в литературе, музыке и живописи, возникшее во Франции в 1870-80-х гг.
Xn—b1algemdcsb. xn--p1ai
21.09.2018 4:08:13
2018-09-21 04:08:13
Источники:
Https://xn--b1algemdcsb. xn--p1ai/crossword/1827973
Тест по литературе «Серебряный век русской поэзии» с ответами » /> » /> .keyword { color: red; } Направление в литературе и искусстве проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее
Тест по литературе «Серебряный век русской поэзии» с ответами
Тест по литературе «Серебряный век русской поэзии» с ответами
Вопрос №5
Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в определении.
«…провозгласил освобождение поэзии от многозначности и текучести образов, усложненной метафоричности, возврат к материальному миру, предмету (или стихии «естества»), точному значению слова». (Большая Советская Энциклопедия)
A) акмеизм
B) футуризм
C) символизм
D) имажинизм
Вопрос №6
Как называется период русской литературы, предшествующий «серебряному веку»?
A) медный век
B) золотой век
C) нет правильного ответа
D) бронзовый век
Вопрос №7
Кто из поэтов является представителем имажинизма?
A) В. Маяковский
B) А. Белый
C) З. Гиппиус
D) С. Есенин
Вопрос №8
«Цех поэтов» — это название союза:
A) акмеистов
B) символистов
C) имажинистов
D) футуристов
Вопрос №9
Какое поэтическое течение было первым в литературе «серебряного века»?
A) акмеизм
B) имажинизм
C) футуризм
D) символизм
Вопрос №10
Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в определении.
«Направление, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства». (Словарь С. Ожегова)
A) акмеизм
B) футуризм
C) имажинизм
D) символизм
Вопрос №11
Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии.
A) конец 19 – начало 20 века
B) начало-середина 20 века
C) конец 19 века
D) начало 20 века
Вопрос №12
Кто из поэтов не является представителем акмеизма?
A) О. Мандельштам
B) А. Ахматова
C) Н. Гумилев
D) В. Брюсов
Вопрос №13
Основоположником какого течения стал Н. Гумилев?
A) акмеизм
B) символизм
C) футуризм
D) имажинизм
Вопрос №14
О каком поэтическом течении «серебряного века» идет речь?
«Направление в литературе и искусстве, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах». (Словарь С. Ожегова)
A) эгофутуризм
B) имажинизм
C) символизм
D) модернизм
Вопрос №15
«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» — это призыв:
A) имажинистов
B) футуристов
C) акмеистов
D) символистов
Вопрос №16
Название какого поэтического течения переводится как «будущее»?
A) имажинизм
B) акмеизм
C) символизм
D) футуризм
Вопрос 16 Название какого поэтического течения переводится как будущее.
Izilearn. ru
28.11.2020 0:36:53
2020-11-28 00:36:53
Источники:
Https://izilearn. ru/index. php? r=materials%2Fview&id=35
Направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX века, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах, 9 букв » /> » /> .keyword { color: red; } Направление в литературе и искусстве проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее
Направление в литературе и искусстве проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее
Spanwords. info
Поиск ответов на кроссворды по тематикам (спорт, музыка и т. д).
Алфавитный указатель
Поиск ответов на кроссворды по начальным буквам слова.
Подбор слов
Поиск ответов на кроссворды по известным буквам в слове.
Популярные запросы
Самые популярные запросы пользовавателей на сайте.
Направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX века, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах
Ответ: СИМВОЛИЗМ
Подходит?
Разбор по буквам:
Варианты вопросов:
Spanwords. info
Ответы на кроссворды
И сканворды онлайн
Ответы приложения «Сканвордист» ВКонтакте.
Ответы приложения «Сканворд дня» Одноклассники.
Ответы приложения «Сканворд дня» Мой мир.
Ответы приложения «Словомер» ВКонтакте.
Ответы приложения «100к1» ВКонтакте.
О проекте
Находите ответы на вопросы в кроссвордах и сканвордах любой сложности за считанные секунды, ведь анализ нужного вам слова введется сразу по нескольким алгоритмам, базам данных, словарям, энциклопедям одновременно.
Spanwords. info
Поиск ответов на кроссворды по тематикам (спорт, музыка и т. д).
Алфавитный указатель
Поиск ответов на кроссворды по начальным буквам слова.
Подбор слов
Поиск ответов на кроссворды по известным буквам в слове.
Популярные запросы
Самые популярные запросы пользовавателей на сайте.
Ответ: СИМВОЛИЗМ
Подходит?
Ответы на кроссворды
И сканворды онлайн
Ответы приложения «Сканвордист» ВКонтакте.
Ответы приложения «Сканворд дня» Одноклассники.
Ответы приложения «Сканворд дня» Мой мир.
Ответы приложения «Словомер» ВКонтакте.
Ответы приложения «100к1» ВКонтакте.
Находите ответы на вопросы в кроссвордах и сканвордах любой сложности за считанные секунды, ведь анализ нужного вам слова введется сразу по нескольким алгоритмам, базам данных, словарям, энциклопедям одновременно.
Spanwords. info
Разбор по буквам.
Spanwords. info
23.02.2019 21:05:33
2019-02-23 21:05:33
Источники:
Https://spanwords. info/answer. php? key=d360609550036ef4d752433a9e73144e&id=611052
Исправьте лексическую ошибку исключив лишнее слово когда совершаешь поступок
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, что когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга.
Пояснение (см. также Правило ниже).
Приведём верное написание.
Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, что когда-нибудь вы получите эффект бумеранга.
«Обратный бумеранг» — это плеоназм, ведь бумеранг — это то, что возвращается, т. е. имеет обратное действие.
замените разговорное слово стилистически нейтральным синонимом в предложении, запишите это слово;
замените книжное слово стилистически нейтральным синонимом в предложении, запишите это слово;
замените разговорное словосочетание стилистически нейтральным, запишите это словосочетание.
1. Что нужно знать, выполняя данное задание?
Синонимы — это слова, чаще всего одной части речи, различные по звучанию, но тождественные или близкие по лексическому значению , нередко отличающиеся стилистической окраской: здесь — тут, смотреть — глядеть мыслить — думать, жестокий — безжалостный, окрестность — округа и т.д.
Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом: спать— почивать— дрыхнуть .
Первое слово спать— является стилистически нейтральным, т.к. наиболее употребительное, может быть использовано в любом стиле речи, обладает минимальной экспрессией; в словаре стоит первым в синонимическом ряду. Слово почивать используется в основном в книжном стиле, придает речи архаический характер (так говорили в старину). Дрыхнуть — этот синоним звучит грубо (такие слова называют просторечными) и употребляется в разговорной речи.
2. Что нужно понимать, выполняя данное задание? Что разговорные слова — это слова, разрешённые в непринуждённой устной речи. И что их можно использовать только в определённых условиях. Чтобы не заменить одно разговорное слово на другое, необходима помощь словарей. Нам помогают толковые словари известных авторов Ожегова, Ефремовой, а также словарь синонимов Александрова.
При поиске слова обращаем внимание на пометки: разг., прост. и слова с такими пометками ни в коем случае не выбираем в качестве ответа.
Рассмотрим пример. Мы замешкались в пути, поэтому пришли к назначенному месту затемно
В словаре Ожегова: ЗАМЕ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; совер. (разг.). Задержаться, пробыть дольше, чем нужно где-н.; замедлить. З. у приятеля. З. с ответом.
Как видно из статьи, нет у этого слова нейтрального значения, поэтому нужно искать другие слова. Как правило, в толковании это слово уже есть, вот оно — «задержаться». Найти больше слов-синонимов нам поможет практический словарь синонимов Александрова. В поисках слова «замешкаться» мы попадаем на статью со словом
ЗАДЕРЖАТЬСЯ и его значениями:
1. застрять (разг.)
/ о человеке: промедлить;
засесть, завязнуть, замешкаться, промешкать, помешкать, закопаться, проканителиться (разг.)
// в гостях или за работой: засидеться (разг.)
// в гостях, загоститься (разг.)
/ о деле: замедлиться, затянуться;
затормозиться, застопориться (разг.)
Обратите внимания, сколько слов имеют пометку разг! Таким образом, мы видим, что слово «замешкаться» заменить нужно нейтральным словом ЗАДЕРЖАЛИСЬ, и это самый точный, самый верный ответ. Нам не подойдут ни «промедлить», ни «замедлиться», ни «затянуться», потому что наше слово в предложении имеет определённое значение.
Итак, алгоритм выполнения задания будет таков:
1. Прочитайте предложение и определите лексическое значение указанного в задании слова.
2. Подберите к этому слову возможные синонимы.
3. Определите, какой из этих синонимов
− не носит оттенка книжности и разговорности;
− обладает минимальной экспрессией ( то есть в нём практически нет эмоций);
− стоит первым в синонимическом ряду, открывая его.
4. Вставьте слово в предложение, при оно должно подходить и по грамматическим признакам, и по значению.
3. Учитывайте особенности внесения ответа в поле «ответ»
1) Впишите в поле ответ ОДНО выбранное слово (или словосочетание).
2) Проверьте, верна ли форма рода, числа, времени, вида. Помните, что мы заменяем одно слово другим, поэтому нельзя вместо вида несовершенного совершенный, вместо настоящего прошедшее время и т.п. Ставьте слово в ТОЙ ЖЕ форме, что и в предложении.
3) Частицы НЕ, БЫ писать в ответ не нужно.
4) Иногда встречаются задания, в которых указанная форма в задании не совпадает с формой в предложении. Например, в условии «Замените слово закидывать. в предложени..», а в предложении «закидывали». В этом случае нужно писать ту форму, что в условии. Если же на экзамене попадётся такое задание, непременно обратите на этот факт внимание ассистентов, вплоть до написания заявления.
5) В связи с тем, что количество синонимов может достигать 5-6 слов, в поле «ответ» редактор вводит НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ слов.
Остальные — возможные, допустимые или невозможные — написаны в пояснению к заданию. Настоятельно рекомендуем не предлагать новые слова, а придерживаться правила: самое верное слово ПЕРВОЕ в ряду синонимов . И тогда балл за это задание вы непременно получите.
Задание 6 ЕГЭ по русскому языку. Практика
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
1. На очной ставке достаточно было Ерофею Федотычу уставиться пронизывающим взглядом в несчастного торговца, чтобы он смешался, спасовал и начал бормотать что-то несвязное, прося прощения за ложный оговор.
2. Я заранее предчувствовал, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведёт меня в дебри.
3. В этот период времени Чарлз Дарвин работал с величайшим напряжением, страстно желая добавить несколько новых фактов к тому великому множеству, которым уже владело естествознание.
4. Для учёного наука и истина больше и важнее, чем ценное богатство, спокойная жизнь, почёт и удовольствие.
5. Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми
мы пользуемся сейчас, будут служить целые столетия после нас для выражения ещё неизвестных нам идей и мыслей.
6. Учёный Бройль сравнил статью Эйнштейна с запальным шнуром фейерверка, который в темноте ночи внезапно ненадолго, но ослепительно ярко освещает пейзаж местности.
7. Старик не спеша налил в большую эмалированную кружку горячего кипятка и стал сердито макать туда пригорелый сухарь.
8. В художественной литературе можно с помощью устаревших архаизмов придать стилю торжественность или, наоборот, создать комический эффект вследствие несоответствия темы и слога.
9. Неточное и неуместное употребление фразеологизмов может привести к забавным курьёзам.
10. С первых же дней, как он поселился жить в сторожке, вблизи стали твориться странные вещи.
11. Через два часа самолет специального назначения был вынужден совершить посадку: радио сообщило, что впереди разыгралась снежная метель.
12. На деревянных стенах висели роскошные гобелены, на которых были изображены сцены из жизни рыцарей, совершающих героические подвиги.
13. Момент откола ледяного айсберга – грандиозное и страшное зрелище, сопровождающееся жутким грохотом, напоминающим канонаду.
14. Мимика лица человека, с точки зрения невербальной психологии, ценный источник информации.
15. По-моему, ведущий лидер в группе – это человек, имеющий влияние на других при выполнении ими совместных действий.
16. Молодая женщина шла тихо, в ней было столько спокойствия, сколько, на мой личный взгляд, может быть только в истинной и живой красоте.
17. Один из странных парадоксов исторической науки заключается в том, что объективность понимания истории обусловливается субъективными взглядами учёных.
18. В отпуск он уходил в январе месяце и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом.
19. В новой опере композитор впадает в пошлость и заурядную банальность и посредством грубых эффектов старается угодить публике.
20. Мы приехали в столицу России и уже знали, что это огромный мегаполис со своим ритмом жизни, в корне отличающимся от привычного.
21. Когда жители города увидели в небе что-то, похожее на НЛО, они не могли понять, как у них оказался этот необъяснимый феномен.
22. Когда пираты нападали на судно, они грабили его и забирали все ценные сокровища, а команду убивали сразу или бросали за борт.
23. Когда эта огромная махина с оглушительным ревом неслась по аэродрому, а потом, исчезнув в облаках поднятой пыли, вдруг возникала над лесом, невольно вспоминались фантастические романы Жюля Верна.
24. Я кивнул головой старику в знак того, что хорошо его понял, и старик хлестнул лошадь, и она пошла быстрым шагом, время от времени пытаясь перейти на рысь.
25. В это краткое мгновение он вспомнил мудрость про свиней, перед которыми не стоит метать бисер.
26. Истинную историю жизни американского классика и его великолепной супруги можно узнать из этой книги или всё здесь лишь ложный вымысел?
27. Много хлопот доставил также неприятный инцидент с Володей: проезжая на извозчике по улице, он встретил знакомого, который от него отвернулся, по-видимому, умышленно.
28. К сожалению, на стоимость транспортной перевозки при этом повлиять не удастся, поскольку управление движением поездов всё равно остаётся в ведении диспетчеров железной дороги.
29. В романе Горелов охарактеризован как прекрасный воспитатель молодёжи, подлинный патриот Родины, кристально честный и принципиальный учёный.
30. Юристы предупредили, что все представленные на всенародный референдум вопросы не соответствуют требованиям федерального законодательства.
31. При этом политик получает дополнительный бонус: он будет считаться единым кандидатом демократических сил на выборах президента.
32. Немчинов тогда имел репутацию начинающего и непризнанного гения, ходил на необязательный факультатив по литературе и писал стихи в школьную стенгазету.
33. Ответную контратаку предприняла пехота первой линии левого фланга, но стремительный натиск имперцев позволил неприятельским стрелкам сделать всего лишь один залп и немедленно отступить.
34. В групповом турнире на Олимпиаде в Сиднее никем не принятая всерьёз корейская сборная преподнесла россиянкам неожиданный сюрприз.
35. Биографический метод изучения литературы обречён на полное фиаско и в самом себе носит причину своей роковой бесплодности.
36. Когда осенью 1984 года в Большом театре был организован вечер памяти великого певца, снова был полный аншлаг.
37. Для ликвидации селевых процессов по всем притокам Малой и Большой Алмаатинки осуществлена устойчивая стабилизация русел уникальной системой глухих запруд и сквозных сооружений из железобетона.
38. Говорить с детьми о великих литературных явлениях нужно образным, живым языком, а мутный и тусклый жаргон должен стать строгим табу для всех педагогов-словесников.
39. Я снова прибавил газу и гнал в темноте, ничего не боясь и думая только о том, что этот долгий проливной ливень сорвёт с земли всю красоту и позолоту и уже завтра леса будут стоять чёрные и пустые.
40. Он купил – и даже в центре города – старенький домишко на слом всего за тысячу рублей денег, главное ведь было – не дом, а участок, место.
41. Здесь Клаус впервые познакомился с методами, необходимыми химику, — с перегонкой, растворением, взвешиванием веществ.
42. «Конечно, лучше ехать, когда не так жарко»,- тотчас же согласилась Клавдия, хотя по голосу заметно было, что эта временная отсрочка ей неприятна.
43. Пока имеет место быть подобное убеждение, не может быть ни духовно единого и устойчивого общества, ни истинно гуманных достижений, ни целостного мировоззрения.
44. Златоустовский булат получил мировую известность, но, хотя П.П.Аносов оставил подробные записи своих опытов, повторить их снова после его смерти никому не удалось.
45. Смешивать вместе жизнь и творчество нельзя, но необходимо их различать, проводить границу между ними.
46. Чайкин сообщил, что находился более месяца в Закаспии, стараясь выяснить все фактические обстоятельства расправы над бакинскими комиссарами.
47. Сколько раз она беседовала с ним, стыдила его, убеждала взяться за свой ум, и ей казалось, что мальчик всё осознал и раскаялся.
48. Он был не из покладистых и не из робкого десятка, хотя не выглядел богатырём.
49. Голова устало кружилась, и всё окружавшее как будто погружалось вместе с ним в глубокую бездну молчаливой ночи.
50. В ответ спортивный рефери попытался ударить обидчика ногой, после чего показал ему вторую жёлтую карточку и удалил с поля.
Лексические нормы (задание 20)
Ищем педагогов в команду «Инфоурок»
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить о том, то когда-нибудь вы получите эффект обратного бумеранга.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Богатая роскошь природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В прейскуранте цен мы не обнаружили товара, который был нам необходим для завершения ремонта.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Сроки сдачи военного объекта нарушены, потому то многие агрегаты для комплекса импортировались из-за рубежа, а из-за санкций срочно пришлось решать проблему импортозамещения.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тёмное пятно и вначале принял его за погодный необычный феномен, ведь на этой планете часто бушуют бури.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Возвращаясь из кинотеатра, мы попали под проливной ливень.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Не существует существенной разницы в нравственных приоритетах мировых религий.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Обмен имеющимся опытом был очень полезен.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Стол напоминал сад: на нём было расставлено так много цветущих цветов, что блюда с закусками терялись в их таинственной чаще.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Н.А.Некрасов явился поэтическим выразителем целой эпохи, основным лейтмотивом творчества поэта является вольнолюбивая лирика.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В настоящее время Тихий океан играет важную роль в жизни многих стран. Половина мирового улова рыбы приходится на эту водную акваторию.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
По моему личному мнению, выставка не вызвала повышенного интереса.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В районе южного полюса Юпитера астроном заметил тёмное пятно и вначале принял его за погодный необычный феномен, ведь на этой планете часто бушуют бури.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
С самого начала произведения автор ведёт взаимный диалог с читателем, показывает своё отношение к главным героям, к их переживаниям, мыслям.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Он повторил снова, что не позволит своей жене подписывать какой бы то ни было ангажемент, пока его кредиторы не будут удовлетворены и пока сам он не получит достаточную сумму, с которой он снова сможет начать свою жизненную карьеру.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Особое место в мемуарной литературе занимают воспоминания о былом, которые с наибольшей полнотой доносят до нас всё то, что помогает почувствовать пульс исторических событий.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Управление почтовой службы берёт на себя обязанность, благодаря которой оно превращается в авторитарный орган власти, обособленный от человеческого общества и возвышающийся над ним.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Стоит мне только взглянуть на это простой памятный сувенир, как я переношусь в глубокое и мрачное урочище Тушкем, на бурливую алтайскую речку Кыгу, на гольцы, на Телецкое озеро, и всякий раз меня охватывает волнение, с которым я не в силах сладить.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Стилизуя повествование под автобиографии жизни беглых рабов и пользуясь сюжетными клише авантюрного романа, Халдрет стремится в беллетризованной форме осудить феномен рабства с моральной и экономической точек зрения.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Характерно, что резкое расстройство вестибулярной функции после окончания приступа нормализуется, но шум в ушах и тугоухость сохраняются и в дальнейшем постепенно прогрессируют вперёд.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Но при этом важно, чтобы банки не проходили эту процедуру в страшном временном цейтноте, в ситуации безвыходности, обусловленной несоблюдением ими требований и нормативов.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Кроме того, у него был знакомый в этом городе, и местный абориген заверил спутников, что все они смогут найти надёжное убежище в его доме.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Елена с нескрываемым волнением ждала первую премьеру спектакля по пьесе замечательного драматурга Жана Жене.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Здоровье человека зиждется на гармоничном взаимодействии органов его тела, а взаимоотношения между людьми, семьями, племенами и народами станут гармоничными, если эмоции и импульсы альтруистического эгоизма автоматически обеспечат мирное совместное сотрудничество и устранят все мотивы переворотов и войн.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Г.Паркер был одним из ведущих лидеров аболиционизма в Новой Англии, писал статьи и памфлеты, выступал с проповедями и речами, участвовал в организации аболиционистских обществ, прятал беглых рабов.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Это огромная махина, пришвартованная к берегу крепкими канатами, представляла отличную пристань, а её просторные палубы, салоны и каюты служили складом для всякого рода грузов.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Чтобы достичь состояния отрешённости посреди военной разрухи, нужно было владеть особым искусством абстрагирования от гнетущей реальной действительности.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Наши деды и прадеды остаются в памяти миллионов людей как символ ратного героического подвига наших воинов при разгроме и изгнании агрессора с родной земли, при освобождении других народов от фашистских поработителей.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Фёдор был призван в Советскую Армию в 1936 году, проходил службу в течение двух лет в городе Кременчуге, а после демобилизации из армии работал бригадиром в колхозе.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Начало ХХ века… Это было время, когда литературная жизнь столицы переживала повальное увлечение модернизмом всех оттенков: от агонизирующего символизма до акмеизма и футуризма, впервые дебютировавших на литературной арене.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Государство может и должно формировать цели и главные приоритеты инновационной политики, создавать условия, стимулировать, продвигать, но само создание коммерческого инновационного продукта всегда останется прежде всего прерогативой частного бизнеса.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Чтобы заглушить тишину, мне хотелось кричать, особенно ночью, среди тёмного мрака и суеты чёрных сновидений.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Целый день он простаивал без дела в шумной типографии с верстаткой в левой руке и быстро доставал из кассы маленькие свинцовые значки, следуя укреплённому на тенакле оригиналу, потом мыл руки под краном, бежал обедать в маленький ресторанчик и там, усевшись за мраморный столик, читал газеты.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Матушка возвратилась назад в городок и познакомилась с людьми, которые не только выразили симпатию, но и объяснили, что нет никакого смысла чувствовать вину относительно чего-либо.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Продвижение двух армий продолжалось около двух недель с интервалом между арьергардом противника и передовым авангардом римлян не более восьми – десяти километров.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В трактовке его фасадов, и особенно внутреннего интерьера, проступили черты тяжеловесной помпезности в эклектичности, свидетельствовавшие о закате классицизма и поисках иной, более декоративно насыщенной и стилистически разнообразной архитектурно-художественной системы.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Толпа размахивала билетами, и Конкин, сжимая маленькую ладонь Витюни, боялся, что их здесь совсем затолкают, но раздражённая, остервенело жестикулирующая руками женщина-контролёр выхватила у него билеты и привычным движением замкнула цепь, перегородив таким образом толпу надвое.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В 60-е годы я впервые познакомился с миром книг Александра Грина, а его «Алые паруса» − это история любви, почти за вековое своё существование ставшая такой же классической и известной как история Ромео и Джульетты или Орфея и Эвридики.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Жил в Москве социолог-футуролог и писатель-фантаст, человек, как бы сказал Акутагава, тонкий, спекулянт острый, ума недюжинного, занимался поисками ценных сокровищ на Британских островах, в озерах Литвы и в окрестностях знаменитой станции Тайга, что в Томской области.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Мой путь пролегал через Францию с её бесподобными ландшафтами местности, через аккуратистку Швейцарию, через высокие перевалы, где на обочинах ещё лежали безобразные серые сугробы, и дальше вниз, в Италию, к месту назначения.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Птицы, заранее предчувствуя непогоду, совершали короткие рейсы от гнездовья к воде и обратно, спеша накормить птенцов и насытиться самим, пока шторм и ненастье не загонят их в укрытие, быть может, на несколько суток.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Давно не крашенные корпуса, ограждающие грязно-снежное пространство под прямым углом к длинному вокзальному фасаду, типовая гостиница в пять этажей – весь этот комплекс провинциальной повседневной обыденности привёл Шубина в то состояние духа, которое вызывает раздражение, направленное против самого себя.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
На дивизию их тоже пошлешь – уже откомандовали там своё, а если открылась свободная вакансия командира корпуса – на неё обычно стремятся лучшего из командиров дивизий выдвинуть.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Константину от всей души хотелось, было просто необходимо, чтобы Мемориал памяти произвёл на него по-настоящему сильное впечатление – не просто понравился, а вызвал благоговейное желание преклонить колени.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Необычный феномен широчайшего хождения книг с готическим сюжетом в Британии на рубеже ХVIII – ХIХ веков и некоторые свойства этих книг подталкивают к обнаружению в ранней литературной готике признаков массовой литературы.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Негативную реакцию православной церкви вызывала совершенно определённая область народного фольклора, рождённая в недрах так называемой «смеховой», или «карнавальной», культуры Древней Руси.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Жизнь – это материя, в которой мы запутываемся, если будем рассуждать о ней слишком много или слишком мало. Трагическая глубина этого странного парадокса в полной мере проявилась в последние месяцы нашей совместной жизни – летом и осенью 1910 года.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Работодатель должен предложить свободную вакансию всем сотрудникам одновременно.
Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
Наверху были магазин, где продавались памятные сувениры, отличное информационное бюро и туалетные комнаты.
Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности.
Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
Большое внимание будет оказано благоустройству города.
Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.
Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти от тонкорунной овцы.
источники:
http://4ege.ru/trening-russkiy/62104-zadanie-6-ege-po-russkomu-jazyku-praktika.html
http://infourok.ru/leksicheskie-normi-zadanie-2635113.html
А. М. Скабичевский
Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк А. М. Скабичевского. С портретом Писемского, гравированным в Петербурге К. Адтом.
ГЛАВА I
Происхождение Писемского. – Среда, в которой он провел свое детство и юность. – Детские годы. – Домашнее воспитание. – Костромская гимназия и Московский университет
Алексей Феофилактович Писемский, один из первостепенных русских писателей, принадлежит к плеяде тех беллетристов сороковых годов, которые, ведя свое происхождение от Гоголя, тем не менее пошли по совершенно самостоятельному пути и обогатили русскую литературу рядом могучих произведений, сразу поставивших ее на один уровень со всеми европейскими.
Беллетристы сороковых годов замечательны, кроме того, тем, что, образуя одну школу, они в то же время не только не теряют своей индивидуальности, но, напротив, представляют разнообразные типы, являясь совершенно самостоятельными и оригинальными художественными личностями. То же самое следует сказать и о Писемском.
Эта оригинальность каждого из беллетристов сороковых годов, кроме разных других причин и обстоятельств, наиболее определяется средой, из которой вышел тот или другой из них, так как среда всегда налагает резкую и неизгладимую печать как на характеры, так и на ход жизни исторических личностей. Принимая это во внимание, мы, прежде чем начнем излагать факты жизни Писемского, скажем несколько слов о нравах той среды, из которой он вышел, убежденные, что такая характеристика послужит нам путеводной звездой к определению многих черт Писемского как человека и писателя.
Итак, начнем с того, что Писемский по своему происхождению принадлежит к среде захолустного мелкопоместного дворянства, нравы которого в начале нынешнего (XIX – Ред.) столетия резко отличались от нравов всех прочих сословий, не исключая и богатого дворянства.
Богатое дворянство в то время было средоточием образованности и культуры русского общества. Стремление стоять на высоте европейской цивилизации, во всем походить на европейцев доходило в этой среде порою до забвения родного языка. Шикарство, комильфотство и стремление к изысканной утонченности нравов составляли предмет строгого культа.
В то время как увлечение передовыми идеями Запада вело здесь к крайнему идеализму, доходившему до полной потери ощущения действительности, легкая возможность удовлетворить всем прихотям на почве крепостного права обусловливала изнеженность и распущенность нравов, мало уступавшие таким же качествам французской знати эпохи регентства.
Совсем иное видим мы в среде мелкопоместного дворянства. Малая образованность и культурное невежество доходили здесь порою до полной безграмотности, и если, по словам поэта, “бывало, русский генерал служил и грамоты не знал”, то чего же было требовать от бедных помещиков разных медвежьих углов и степных захолустий? Домостроевская строгость семейного быта шла здесь рука об руку с еще более неумолимой суровостью по отношению к крепостным, которых у барина было немного и которые поэтому все были наперечет; барин имел возможность входить в жизнь и интересы каждого своего раба, и идеал его как барина заключался в том, чтобы держать всех их в ежовых рукавицах.
Скудость средств развивала здесь энергию борьбы за существование; некогда было идеальничать и заноситься за облака в опасности умереть с голоду, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до черствого кулачества и скаредности. Материальные расчеты преобладали; даже и женились по большей части на основании таблички сложения, так как в сумме 50 душ крестьян да еще 50 составляли 100, и состояние удваивалось.
Но зато, при верности праотеческим традициям, здесь более сохранялись своеобразные черты русской жизни. Бедный помещик ближе стоял к крестьянину, чем его богатый сосед. Жизнь была проще, нравы – чище; чаще встречались непосредственные, честные и прямодушные люди, закаленные суровым опытом жизни. А если наблюдался здесь разврат, то и он имел свой особенный характер: французские кокотки заменялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которых порою одинокие холостяки или вдовцы женились; шампанскому же предпочитали отечественную сивуху, вследствие чего в мелкопоместной среде при скудости умственных интересов и монотонности жизни бывали часты случаи мрачного запоя.
Чухломской уезд Костромской губернии, родина Писемского, был именно одним из тех трущобных захолустий, где нравы мелкопоместного дворянства сохранились в двадцатые годы нынешнего столетия во всей своей неприкосновенности.
“Я происхожу, – сообщает Писемский в оставшейся после него автобиографии, – от старинного дворянского рода. Один из предков моих, некто дьяк Писемский, был посылаем царем Иоанном Грозным в качестве посла в Лондон для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племяннице царь предполагал жениться. Другой предок мой из рода Писемских пошел в монастырь и удостоился быть причисленным к лику святых, в сонме которых до сих пор именуется Макарием Писемским, а мощи его почиют в Макарьевском, на реке Унже, монастыре. Вот и вся историческая слава моего рода. Позднейшие Писемские, о которых я слыхал, были по большей части люди богатые; но та ближайшая ветвь, от которой, собственно, я происхожу, была совершенно захудалая: дед мой был безграмотен, ходил в лаптях и сам пахал землю. Богатый родственник его, малороссийский помещик, взялся устроить судьбу отца моего, Феофилакта Гавриловича Писемского, которому тогда было четырнадцать лет, устройство судьбы ребенка состояло в том, что отца моего пообмыли, пообшили, выучили грамоте и определили солдатом в войска, пошедшие завоевывать Крым.
Прослужив лет тридцать в действующей армии, отец мой уже в чине майора нашел возможность побывать на родине, т. е. в Костромской губернии, которая отстояла от Кавказа на две тысячи почти верст; но он, тем не менее, большую часть пути совершил в сопровождении четырех денщиков верхом, находя езду в экипаже совершенно для себя неприятной и очень беспокойной. На родине ему пришлось жениться на моей матери из довольно достаточного семейства Шиповых. Отцу моему в это время было лет сорок пять, а матери – тридцать семь. Плодом этого брака, между прочими детьми, был и я, родившийся в 1820 году 10 марта в усадьбе Раменье. Четверо детей, бывших передо мною, померли, а равно померли и бывшие после меня пять человек. Если дозволительно детям произносить суд над родителями, то я могу таким образом определить моего отца и мою мать. Отец мой в полном смысле был военный служака того времени, строгий исполнитель долга, умеренный в своих привычках до пуризма, человек неподкупной честности в смысле денежном и вместе с тем суровый и строгий к подчиненным: наши крепостные люди его трепетали, но только дураки и лентяи, а умных и дельных он даже баловал иногда.
Мать моя была совершенно иных свойств: нервная, мечтательная, тонко умная и при всей недостаточности воспитания прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключением весьма умных глаз, была нехороша, и по поводу ее наружности покойный отец мой, когда я был уже студентом, имел со мною такого рода беседу:
– Скажи мне, Алексей, отчего это мать твоя чем дальше живет, тем красивее становится?
– Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая с годами все больше и больше выступает.
Отец согласился со мною”.
Вот что сообщает Писемский в автобиографии о своем детстве:
“По рассказам, я рос очень болезненно в раннем детстве и ужасно капризничал: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовал грязной воды, в которой меня мыли, то требовал куска, который отец проглотил; был даже, говорят, лунатик, так что меня лавливали входящим на чердак. Все эти проделки мои не помешали мне, однако, сделаться каким-то божком для отца и матери да сверх того еще для двух теток, барышень Шиповых, не вышедших замуж, которые, непременно предполагая сделать меня своим наследником, пылали ко мне какою-то материнской любовью, так что между соседним дворянством говорили, что у меня не одна мать, а три.
Сначала детство мое, до десяти лет, я провел в маленьком уездном городке (Ветлуге), куда отец мой определен был от комитета о раненых городничим. Воспоминания о житье в этом городке у меня остались какие-то планетные: помню я наш дом, довольно большой, с мезонином, где обитал я; помню пол, очень негладкий, играя на котором, я занаживал себе руки; помню высокую белую церковь, а в ней рыжего протопопа Колосова; помню кадку из-под стрехи, в которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, светлые дни и большую реку, к которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затем я уже жил в настоящей деревне, куда переселились мои родители. Особенно резок и шаловлив, по словам всех, я не был, но всегда любил устраивать игры в попы (т. е. представлять, как попы служат), в лошади, пахал грядки, сидел на лабазе, подстерегая медведя. Словом, описание моего детства находится в “Людях сороковых годов”, в главе второй”.
Обращаясь, по указанию Писемского, ко второй главе его вышеназванного романа, мы действительно находим ряд весьма живых сцен из детства героя романа Паши. Описывается, как Паша со своим товарищем, дворовым мальчиком Титкой, и собакой Куцкой бегали за зайцем, как медведь утащил у отца лучшую корову, а егерь Яков Сафоныч подстерег и убил медведя, к несказанному удовольствию мальчика, которого едва отец мог удержать от участия в охоте егеря. Подросши, мальчик выучился верховой езде и до страсти полюбил ее.
“Главное удовольствие при этом, – читаем мы в романе, – доставляли ему опасность и могущество власти над лошадью. Он один-одинехонек уезжал верст за семь через довольно большой лес; кругом тишина, ни души человеческой, и только что-то поскрипывает и потрескивает по сторонам. Лошадь идет, навострив уши, вздрагивая и как бы прислушиваясь к чему-то. Но вот огромная глинистая гора; Павел слегка только сдерживает поводья. Лошадь осторожней-шим образом сходит с горы, немного приседая назад и скользя копытами по глине; Павел убежден, что это он ее так выездил. За горой надобно проехать через довольно крутой мост; на середине его большая дыра. Павел нарочно погоняет лошадь и направляет ее на эту дыру; но она ее перескакивает. Следующую речку Павел решился переехать вброд. Речонка тоже пенится и шумит; лошадь немножко заартачилась; Павел смело нукает ее; лошадь осторожно входит в воду. На середине реки ей захотелось напиться, и для этого она вдруг опустила голову; но Павел дернул поводьями и даже выругался: “Ну, чорт, запалишься!” В такого рода приключениях он доезжает до села, объезжает там кругом церковной ограды, кланяется с сидящею у окна матушкой-попадьей и, видимо гарцуя перед нею, проскакивает село и возвращается домой”.
Выпросивши у отца ружье, мальчик почти каждый день начал в сопровождении Титки и Куцки ходить на охоту:
“Охотником искусным он не сделался; но зато привык рано вставать и смело ходить по лесам. Каких он не видал высоких деревьев, каких перед ним не открывалось разнообразных и красивых лощин! Утомившись, он очень любил лечь где-нибудь на траве вверх лицом и смотреть на небо. И вдруг ему начинало представляться, что оно у него как бы внизу, самые деревья как будто бы растут вниз и вершины их словно купаются в воздухе, – а он лежит на земле потому только, что к ней чем-то прикреплен; но уничтожься эта связь, и он упадет туда, вниз, в небо. Павлу делалось при этом и страшно, и весело…”
Таким образом, детство Писемский провел среди бодрящих и закаляющих телесно и душевно впечатлений деревенской жизни. Он получил в эти годы то скудное образование на медные деньги, какое в то время было свойственно среде мелкопоместного дворянства. Вот что говорит он в романе “Люди сороковых годов” о воспитании героя Паши:
“По случаю безвыездной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходский дьякон, который версты за три бегал каждый день поучать его часа два; потом был взят к нему расстрига-поп, но оказался уж очень сильным пьяницей; наконец учил его старичок, переезжавший несколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший по крайней мере поколения четыре. Как ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его делу: читать, писать, арифметике, грамматике, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобретающей приличные для его возраста causeries[1] с ним; ему никогда и никто не читал детских книжек, а он прямо схватился за кой-какие романы и путешествия, которые нашел на полке у отца в кабинете; словом, ничто как бы не лелеяло и не поддерживало в нем детского возраста, а скорей игра и учение все задавали ему задачи больше его лет”.
Почти то же говорит он о своем воспитании в доме отца и в своей биографии.
“Учиться меня особенно не нудили, да я и сам не очень любил учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любил до страсти: до четырнадцатилетнего возраста я уже прочел, в переводе разумеется, большую часть романов Вальтер Скотта, “Дон Кихота”, “Фоблаза”, “Жильблаза”, “Хромого Беса”, “Серапионовых братьев” Гофмана, персидский роман “Хаджи-Баба”; детских же книг я всегда терпеть не мог и, сколько припоминаю теперь, всегда их находил очень глупыми.
Наставники у меня были очень плохи и все русские. В детстве я, кроме латинского языка, никакому новому языку не учился, что мне впоследствии приносило и даже до сих пор приносит большой вред. Тщетно я в гимназии и в университете старался познакомиться с французским и немецким языками, которым, впрочем, в некоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило и полугода, как я забывал язык. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность к языкам, к истории и к естественным наукам; тогда как к наукам философским, т. е. к математике, к метафизике, к логике, эстетике, этике, я весьма склонен”.
“В 1834 году, т. е. когда мне было четырнадцать лет, меня отдали в Костромскую гимназию, во второй класс. Учиться там я начал понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую стяжал себе славу на актерском поприще”.
Обращаясь затем к роману “Люди сороковых годов”, в котором автор описал все свое детство, мы видим, что отец Писемского сам свез сына в Кострому, где и поместил его на частную квартиру в большом каменном запущенном помещичьем доме, в довольно глухом переулке. На пожелтелой крыше его во многих местах росла трава; штукатурка и разные украшения наружных стен обвалились. В верхнем этаже некоторые окна были с выбитыми стеклами, а в других стекла были заплесневелые, с радужным отливом; в нижнем этаже их закрывали тяжелые ставни. К главному подъезду вели железные ворота, на которых виднелся расколовшийся пополам герб фамилии владельцев. Его держали два льва, один – без головы, а другой – без всей задней части. Вместе с мальчиком в качестве тутора и репетитора был помещен старший его летами гимназист Стайновский, а прислуживать им оставили дворового парня лет четырнадцати.
Расставание отца с сыном было самое трогательное. Мальчик бросился к отцу на шею, зарыдал на всю комнату и произнес со стоном: “Папенька, друг мой, не покидай меня навеки!” Старик застонал, зарыдал тоже. “Нет, не покину, не покину!..” – бормотал он; потом, едва вырвавшись из объятий сына, сел в экипаж: у него голова даже не держалась хорошенько на плечах, а как будто болталась. “Папаша, папаша, милый!” – стонал мальчик. Старик махнул рукой и велел себя везти скорее; экипаж уехал. Мальчик, как бы все уже похоронив на свете, с понуренной головой и весь в слезах отправился в комнаты… По крайней мере с месяц после разлуки с отцом он тосковал о нем.
Но вот начались уроки, и потекла день за днем монотонная гимназическая жизнь, однообразие которой нарушилось приездом в город бродячей труппы.
Актеры были крайне плохие. Устроенный в помещении кожевенного завода театр находился где-то под землей, и сохранялся еще запах дубильных веществ, которым пропитаны были его стены. Зрителям, чтобы попасть в партер, надобно было спуститься вниз по крайней мере сажени на две. Тем не менее, когда Стайновский предложил своему воспитаннику отправиться вместе в театр на представление “Днепровской русалки”, мальчик был на седьмом небе. Его по преимуществу волновали названия: “сцена”, “ложи”, “партер”, “занавес”, но что, собственно, это значило и как все это соединить и расположить, он никак не мог придумать в своем воображении. Заиграла музыка.
Писемский в жизни своей, кроме одной скрипки и плохих фортепьяно, не слыхал никаких инструментов; но теперь, при звуках довольно большого оркестра, у него как бы вся кровь прилила к сердцу; ему хотелось в одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавес поднялся. С какой жадностью взор нашего юноши ушел в таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, позади которой виднелся занавес с Бог знает куда уводящей далью; а перед ним что-то серое шевелилось на полу – это была река Днепр!
И как ни плохи были лицедеи, как ни убога была вся обстановка провинциального театра, юноша был как бы в тумане: весь этот театр со всей обстановкой и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а – как было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным. Результатом того сильного впечатления, которое произвело на юношей это зрелище, было то, что на святках они задумали устроить у себя дома свой театр. Инициатива принадлежала Стайновскому как старшему возрастом. Он хорошо умел рисовать, и это помогло ему сделать декорации и занавес. Сцену и зрительный зал решили устроить в большой зале, бывшей в опустевшем доме, где они обитали; употребили в дело и найденную там старинную мебель. Не меньшую изобретательность проявил Стайновский и в изготовлении костюмов из немногих имевшихся в наличии материалов: гимназических вещей, мундирчиков, конских волос, бычачьих пузырей и т. п. Для представления были избраны “Казак-стихотворец” и “Воздушные замки”. Роль Маруси уговорили играть очень хорошенького гимназистика, который был в гимназических певчих и имел превосходный тоненький голосок. Один из актеров, подвизавшийся на городском театре, был приглашен выучить юношей петь надлежащие куплеты. Писемский взял себе роль Прудиуса в “Казаке-стихотворце”. В назначенный день собралось столько публики, сколько мог вместить импровизированный театр; публика состояла из гимназических учителей и гимназистов с их родственниками. Спектакль прошел блистательно, причем Писемский заткнул за пояс своего товарища-тутора Стайновского, отличившись правдивостью и тактом в исполнении своей роли.
Этот успех Писемского имел такие последствия: во-первых, самолюбие Стайновского было так уязвлено неудачей на театре, что он был почти не в состоянии видеть Писемского и уехал от него, оставив мальчика одного с его дворовым парнем; и, во-вторых, Писемский начал воображать себя будущим великим актером и, оставшись жить один, нередко перед своим казачком и сторожем дома, старым инвалидом, декламировал, надев халат и подпоясавшись кушаком, из “Дмитрия Донского”:
Российские князья, бояре, воеводы,Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы.
Или восклицал, цитируя Корнеля в переводе Катенина и обращаясь к инвалиду: “Иди ко мне, столб царства моего!”
Вообще детские игры он совершенно покинул и повел “эстетический образ жизни” в подражание своему дяде со стороны матери, Всеволоду Никитичу Бартеневу. Этот Бартенев, изображенный Писемским в романе “Люди сороковых годов” в лице Эспера Ивановича, бывший флотский офицер, представлял собою весьма оригинальный тип своего времени; это был байбак, Обломов, не сходивший со своего дивана, и в то же время просвещенный любитель и знаток литературы и всех искусств, энциклопедически образованный и горячий проповедник просвещения. Он оказывал большое влияние на племянника во время гимназических лет Писемского, снабжая его романами, журналами, путешествиями. Юноша с каждым годом все более и более погружался в чтение; часто ходил в театр; наконец задумал учиться музыке. В доме, где он продолжал обитать, оказалось фортепьяно; он перенес его в свою комнату, поправил и настроил на свои скудные средства. В учителя он себе выбрал, по случаю крайней дешевизны, того самого актера, который дирижировал пением в гимназическом спектакле. Он, впрочем, мог растолковать Писемскому одни ноты; а затем Писемский уже сам стал разучивать, как Бог на разум послал, небольшие пьески и к концу года играл довольно бойко, так что нашелся даже обожатель его музыки, один из товарищей, который прослушивал его иногда по целым вечерам и совершенно искренно уверял, что такой игры на фортепиано, с подобной экспрессией, он не слыхивал.
Обильное чтение не замедлило оказать свое влияние на восприимчивую натуру юноши, пробудив в нем творческие силы. В этом отношении мы встречаем в романе “Люди сороковых годов” характерный эпизод, который, подобно многим другим фактам детства и юности героя романа, в свою очередь мог быть взят всецело из жизни самого автора. Так, Писемский рассказывает, как герой его, Павел Вихров, сблизился с учителем математики, хохлом; вместе они ходили на охоту, и учитель этот свободомысленными речами возбудил в юноше критическое отношение к гимназическому начальству. “Все эти толкования, – читаем мы в романе, – сильно запали в молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличия останавливало его, что он не делал с начальством сцен и ограничивался в отношении его глухой и затаенной ненавистью”. Но недолго продолжалась эта сдержанность. Инспектор гимназии, и он же учитель словесности, являлся креатурой директора, так как последний возвел его в инспекторский сан вследствие того, что тот сошелся с его дочерью и должен был жениться на ней.
“Перед экзаменами, – читаем мы в романе, – инспектор-учитель задал им сочинение на тему “Великий человек”. По словесности Вихров тоже был первый, потому что прекрасно знал риторику и логику и кроме того сочинял прекрасно. Счастливая мысль мелькнула в его голове; давно уже желая высказать то, что наболело у него на сердце, он подошел к учителю и спросил его: можно ли, вместо заданной им темы, написать на тему “Случайный человек”. “Напишите!” – отвечал тот, вовсе не поняв его намерения. Павел пришел и в одну ночь накатал сочинение. О, каким огнем негодования горел он при этом! Он писал: “Народы образованные более всего ценят в гражданах своих достоинства. Все великие люди Греции были велики и по душевным своим свойствам, у народов же необразованных гораздо более успевают лесть и низость; вот откуда происходит случайный человек! Он может не иметь никаких личных достоинств и на высшую степень общественных почестей возводится только слепым случаем! Торговец блинами становится корыстолюбивым государственным мужем, лакей – графом, певчий – знатной особой”.
Сочинение это произвело, как и надо ожидать, страшное действие… Инспектор-учитель показал его директору; тот – жене; жена велела выгнать Павла из гимназии. Директор, очень добрый, в сущности, человек, поручил это исполнить зятю. Тот, собрав совет учителей и бледный, с дрожащими руками, прочел ареопагу злокачественное сочинение; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отец Никита произнес, хохоча, себе под нос:
– Сатирик! Как же, ведь все они у нас сатирики!
– Я полагаю, господа, выгнать его надо? – обратился инспектор-учитель к совету.
– Это очень уж жестоко, – послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.
Зачем же ему учиться, ведь уж он сочинитель!.. – подхватил, опять смеясь, отец Никита”.
Насилу сумел отстоять своего друга все тот же учитель математики, который был виновником подобного настроения юноши.
Очень вероятно, что нечто подобное случилось в гимназии и с самим Писемским. В автобиографии же своей он о начале развития своего писательского дарования говорит кратко: “В пятом классе я был признан учителем словесности прекрасным талантом, в шестом классе я уже написал повесть, назвав ее “Черкешенкой”, а в седьмом сочинил еще большую повесть “Чугунное кольцо”, которые, вероятно, отличались более стилем, так как я в них описывал такие сферы, которые совершенно были для меня неведомы”.
В романе “Люди сороковых годов” писание последней повести находится в связи с первой романтической любовью героя к кузине Мери, конечно, значительно старшей его по возрасту и относившейся к нему как к мальчику.
“Вскоре после того, – читаем мы, – Павел сделался болен, и ему не велено выходить из дому. Скука им овладела до неистовства – и главное оттого, что он не мог видеться с Мери. Оставаясь почти целые дни один-одинешенек, он передумал и перемечтал обо всем; наконец, чтобы чем-нибудь себя занять, вздумал сочинять повесть и для этого сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: “Чугунное кольцо”. Героем своей повести он вывел казака, по фамилии Ятвас. В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которою он как бы говорил: “Я вас!”, и, чтобы замаскировать это, вставил букву т. Ятвас этот влюбился в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло рандеву в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо; но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве; обоюдный ужас – и после этого казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини”.
Не ограничиваясь чтением этой повести своей кузине, Писемский посылал ее в редакции столичной прессы, но повесть принята не была.
В 1840 году Писемский кончил гимназический курс и вознамерился ехать в Московский университет, выдержавши при этом, если судить по роману “Люди сороковых годов”, немалую борьбу с отцом, который требовал, чтобы сын поступил в Демидовский лицей на том основании, что там он учился бы и содержался на казенный счет, в закрытом пансионе, под присмотром начальства и был бы несравненно ближе к родительской усадьбе, так что за ним ничего не стоило бы на каникулах прислать лошадей. Но сын настоял на своем и поступил-таки в Московский университет на математический факультет.
В своей автобиографии Писемский называет выбор факультета как нельзя более удачным, хотя и не находит, чтобы университетское образование дало ему очень много. “Будучи, – говорит он, – большим фразером, я в этом случае благодарю Бога, что избрал математический факультет, который сразу же отрезвил меня и стал приучать говорить только то, что сам ясно понимал. Но этим, кажется, только и кончилось благодетельное влияние университета. Научных сведений из моего собственного факультета я приобрел немного”.
Правда, нельзя сказать, чтобы и вообще математические факультеты благотворно влияли на людей, одаренных художественным талантом. Тем более трудно ожидать, что такое благотворное влияние мог оказать математический факультет одного из русских университетов сороковых годов. Но все-таки было бы ошибочно утверждать, что университетские годы прошли для Писемского совсем бесплодно. Недаром Писемский в романе “Люди сороковых годов” говорит о своем герое: “Естественные науки открыли перед ним целый мир новых сведений: он уразумел и трав прозябанъе, и с ним заговорила морская волна. Он узнал жизнь земного шара – каким образом он образовался, как на нем произошли реки, озера, моря; узнал, чем люди дышат, почему они на севере питаются рыбой, а на юге – рисом. Словом, вся эта природа, интересовавшая его прежде только каким-нибудь очень уж красивым местоположением, очень хорошей или чрезвычайно дурной погодой, каким-нибудь никогда не виданным животным, – стала теперь понятна ему в своих причинах, явилась машиной, в которой было все теснейшим образом связано одно с другим. Из изящных собственно предметов он в это время изучал Шекспира и еще Шиллера, за которого он принялся, чтобы выучиться немецкому языку, столь необходимому для естественных наук, и который сразу увлек его как поэт человечности, цивилизации и всех юношеских порывов”.
О том же свидетельствует Писемский и в своей автобиографии, говоря, что хотя учеба на факультете дала ему не много научных сведений, но зато он познакомился с Шекспиром, Шиллером, Гёте, Корнелем, Расином, Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго, Жорж Санд и сознательно оценил русскую литературу.
Надо принять в соображение также и то обстоятельство, что Писемский, подобно многим своим товарищам, не ограничивался одной математикой, а слушал лекции профессоров других факультетов. Так, в романе “Люди сороковых годов” он сообщает эпизод, очевидно, вполне автобиографический:
“Профессор словесности, – читаем мы в романе, – задал студентам темы для сочинений. Вихров ужасно этому обрадовался и выбрал одну из них, а именно “Поссевин в России”, и сейчас же принялся писать на нее. Еще и прежде того, как мы знаем, искусившись в писании повестей и прочитав потом целые сотни исторических романов, он изобразил пребывание Поссевина в России в форме рассказа: описал тут и царя Иоанна, и иезуитов с их одеждою, обычаями, и придумал даже полячку, привезенную ими с собой. Целые две недели Вихров занимался этим трудом и наконец подал его профессору, вовсе не ожидая от того никаких особых последствий, а так только потешил в этом случае натуру свою. Невдолге после того профессор стал давать отчет о прочитанных им сочинениях. Он их обыкновенно увозил из университета на ломовом извозчике – и на ломовом же извозчике и привозил. Взойдя на кафедру, он был как бы некоторое время в недоумении.
– Милостивые государи, – начал он своим звучным голосом, – я, к удивлению своему, должен отдать на нынешний раз предпочтение сочинению не студента словесного факультета, а математики… Я говорю про сочинение г-на Вихрова “Поссевин в России”.
У Павла руки и ноги задрожали и в глазах помутилось.
– Г-н Вихров! – вызвал уже его профессор.
Павел встал. Профессор, как бы с большим вниманием, несколько времени смотрел на него.
– В вашем сочинении, не говоря уже о знании фактов, видна необыкновенная ловкость в приемах рассказа; вы как будто очень опытны и давно упражнялись в этом.
– Я давно уж пишу! – отвечал Вихров с дрожащими губами.
– Упражняетесь в этом!.. Прекрасно, прекрасно!.. У вас положительное дарование!
И профессор мотнул Вихрову головой в знак того, чтобы тот садился.
Павел опустился – от волнения он едва стоял на ногах; но потом, когда лекция кончилась и профессор стал сходить по лестнице, Павел нагнал его:
– У меня целая повесть написана, – сказал он, – позвольте вам представить ее!
– Представьте, – сказал профессор, уже с удивлением взглянув на него.
Вихров на следующую же лекцию принес ему свою повесть “Чугунное кольцо”. Профессор взял у него тетрадку. Целую неделю Вихров горел, как на угольях. Профессора он видел в университете; но тот ни слова не говорил с ним о его произведении. Наконец после одной лекции он проговорил:
– Г-н Вихров здесь?
– Здесь! – отвечал Павел, опять с дрожащими губами.
– Прошу вас сегодня зайти ко мне вечерком: я имею с вами поговорить.
Вихров рад был двадцать-тридцать раз к нему сходить. “Что-то он скажет мне и в каких выражениях станет хвалить меня?” – думал он все остальное время до вечера: в похвале от профессора он почти уже не сомневался. Часу в седьмом вечера он почти бегом бежал со своей квартиры к дому профессора и робкою рукою позвонил в колокольчик. Человек отпер ему и впустил его; Павел сказал ему свою фамилию. Человек повел его сначала через залу, гостиную. Вихров с искреннейшим благоговением вдыхал в себя этот ученый воздух; в кабинете, слабо освещенном свечами с абажуром, он увидел самого профессора; все стены кабинета уставлены были книгами, стол завален кипами бумаг.
– Здравствуйте, садитесь! – сказал он ему ласково. Вихров сел.
– Я позвал вас, – продолжал профессор, – сказать вам, чтобы вы бросили это дело, за которое очень рано взялись!
И он сделал при этом значительную мину. Вихров покраснел.
– Почему же? – спросил он.
– Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочинение из книг, наконец, описать ваши собственные ощущения – но никак не роман или повесть! На меня, признаюсь, ваше произведение сделало очень, очень неприятное впечатление; в нем выразилась или весьма дурно направленная фантазия, если вы все выдумали, что писали… А если же нет, то это, с другой стороны, дурно рекомендует вашу нравственность!
И профессор опять при этом значительно мотнул Вихрову головой и подал ему его повесть назад. Павел только из приличия просидел у него еще с полчаса, и профессор все ему толковал о тех образцах, которые он должен читать, если желает сделаться литератором, о строгой и умеренной жизни, которую он должен вести, чтобы быть истинным жрецом искусства, и заключил тем, что “орудие, то есть талант, у вас есть для авторства, но содержания еще никакого!” Герой мой вышел от профессора сильно опешенный. “В самом деле мне, может быть, рано еще писать!” – подумал он сам с собой и решился пока учиться и учиться!..”
В это время студенты увлекались Белинским; под влиянием же любимого критика вели ожесточенные и бесконечные философские споры и зачитывались Гоголем. Из того же автобиографического романа мы видим, что все это проделывал и Вихров, а значит – так или иначе – и Писемский. Об увлечении же Писемского Гоголем мы можем судить по воспоминаниям Алмазова, вот что сообщившего, между прочим, в своей речи на юбилее Писемского:
“Какие же влияния способствовали развитию такого в высшей степени самородного таланта, как талант Писемского? Литературными образцами для нашего юбиляра были творения двух наших великих писателей-художников, Пушкина и Гоголя; на эстетические его теории имели большое влияние критические статьи Белинского, и вообще умственное его развитие совершалось под воздействием профессоров Московского университета начала сороковых годов. Что касается до влияния, происходящего от личного сношения с людьми, то мы знаем только одного литератора, который имел некоторое влияние на Писемского, – и этот литератор, как ни покажется это странным на первый раз, был никто другой, как Павел Александрович Катенин. Как, подумают многие, тот Катенин, который, по словам Пушкина, “воскресил Корнеля гений величавый”? Катенин, крайний сторонник и самый отчаянный поклонник французского псевдоклассицизма, переводчик Корнеля, имел влияние на такого писателя-реалиста, как Писемский? Как это ни странно, а это правда. Познакомился Писемский с Катениным случайно: Катенин жил в трех верстах от родового имения Писемских (в Костромской губернии), где родился, получил первоначальное воспитание и проводил потом время гимназических и университетских вакаций будущий автор романа “Тысяча душ”, трагедии “Горькая судьбина” и комедий “Ваал”, “Ипохондрик”, “Подкопы”. Ветеран литературы, Катенин, фанатически верный своим идолам, Корнелю и Расину, и корану псевдоклассической поэзии, “L’art Poétique” Буало, подружился с молодым студентом, жарким поклонником Гоголя и статей Белинского, – Белинского, у которого, по духу тогдашних эстетических теорий, имена Корнеля и Расина чуть-чуть не были бранными словами. Как же проводили время, сходясь между собою, эти два совершенно противоположные по литературным убеждениям человека? Катенин декламировал перед Писемским произведения французских лжеклассиков; Писемский читал Катенину произведения Гоголя. Разумеется, после чтения у них были горячие споры. “Ваш Гоголь – дрянь, гадость!” – кричал в каком-то ожесточении Катенин. Писемский, возражая Катенину, обзывал, вероятно, тоже не совсем лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкал спор, Писемский слушал какую-нибудь трагедию какого-нибудь французского классика, а немного погодя Катенин слушал повесть или комедию Гоголя.
В чем же отразилось влияние Катенина на Писемского? Во-первых, в некоторых сценических приемах нашего юбиляра, ибо я никак не могу пройти молчанием сценический талант Писемского. Вам, милостивые государи, которые не раз наслаждались в этой самой зале его необыкновенно искусным чтением, вам, вероятно, будет приятно вспомнить об одном из сценических успехов Писемского, и потому вы мне позволите сделать отступление в моей речи. Поэзия и сцена – не дальняя родня между собою, и, говоря о литературных достоинствах писателя, позволительно сказать и о его достоинствах как актера”.
“В 1844 году наше тогда еще молодое поколение прослышало, что в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах – в тех самых, которые потом описаны с таким юмором в одном из романов нашего автора, – живет какой-то студент Московского университета, второго отделения философского факультета, который читает своим приятелям Гоголя, и читает так, как никто еще до того времени не читывал. Наше поколение горячо и восторженно принимало к сердцу все интересы искусства и потому сильно взволновалось, услышав эту новость, и рвалось послушать, как Писемский читает Гоголя. Но нам, школьникам, было слишком недоступно общество студентов, а студенты философского факультета одним своим наименованием наводили на нас священный страх… Вдруг доходит до нас слух, что на одном так называемом благородном театре будет даваться “Женитьба” Гоголя и что в ней роль Подколесина будет играть Писемский. С трудом мы пробрались на этот спектакль. Конечно, не мы были судьями над Писемским, но мы были свидетелями того изумления, с каким избранное московское общество смотрело на игру Писемского. В то время Подколесина играл на Императорском театре великий наш комик Щепкин; но кто ни взглянул на Писемского, всякий сказал, что он лучше истолковал этот характер, чем сам Щепкин. Не стану распространяться о сценических дарованиях Писемского: большая часть из наших посетителей, слышавшая его чтение, уже может вообразить, каков он должен быть на сцене. Скажу только, что Писемский обязан Катенину тем удивительным уменьем владеть собою, тою удивительно отчетливою и сдержанною интонацией голоса, которою мы любуемся в те минуты, когда он читает нам трагические места из своих произведений…”
О высоком мастерстве в декламаторском искусстве свидетельствуют и другие современники Писемского. Так, И.Ф. Горбунов в своих воспоминаниях о Писемском, сообщая между прочим о чтении им своей “Плотничьей артели” на вечере у Краевского, говорит, что “это было не чтение, а высокая сценичная игра; каждое лицо выглядело, как живое, со своим тоном, со своим жестом, со своей индивидуальностью. Художественное наслаждение было полное, все были в неописанном восторге”. Слава о превосходном чтении Писемского не замедлила распространиться по Петербургу, и Писемского наперерыв приглашали читать в Петербурге, в Кронштадте и других окрестностях. “Очень часто, – говорит Горбунов, – по вечерам, а иногда и днем мы отправлялись с ним куда-нибудь на чтение. Мы сделались известными чтецами и вошли в моду; нас приглашали в самое высшее общество. “Мы с тобой точно дьячки, – сказал он один раз, – нам бы попросить митрополита, чтобы он разрешил стихарь надеть”.
Об этом же свидетельствует в своих воспоминаниях о Писемском П.В. Анненков:
“Он действительно передавал мастерски собственные сочинения, находя чрезвычайно выразительные интонации для всякого лица, выводимого им на сцену (в драматических его пьесах это выходило особенно эффектно). Так же мастерски рассказывал он множество уморительных анекдотов из его встреч с разными лицами своей молодости. Подобных анекдотов были у него целые короба, и в каждом из них выражался более или менее законченный комический тип. Многие из таких типов были им обработаны позднее и попали в его сочинения”.
Но Анненков расходится с Алмазовым относительно актерского таланта Писемского. По его словам, репутация великого актера, которая была составлена Писемскому в Москве и которой он очень гордился, не выдержала окончательной пробы:
“Так, при исполнении им роли городничего в “Ревизоре” Гоголя, данном на публичном спектакле в пользу литературного фонда, который был тогда в большой моде (1860), он оказался слабым и монотонным, изображая эту живую фигуру. Дело в том, что Писемский всегда счастливо находил одну верную ноту в предоставленной ему роли и по ней создавал все лицо исключительно, пренебрегая всеми другими оттенками его. Однажды я был свидетелем, как Писемский, в присутствии покойного Мартынова, вздумал оправдывать эту грубую, упрощенную манеру понимания изображенных лиц и утверждал между прочим, что гениальный создатель “Ревизора”, кажется, писал свою комедию не для сцены, потому что в городничем его беспрестанно встречаются вводные мысли и отступления, сбивающие с толку актера и мешающие ему проводить роль в надлежащем единстве. Великий наш комик, который был также и очень сильным теоретиком своего искусства, горячо возражал на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что все эти a parte,[2] побочные мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляют благодарную задачу для истинного актера, помогая ему высказать в полном блеске свое дарование и слиянием всех этих отдельных черт в один полный образ создать характер, способный остаться надолго в преданиях театрального мира. Писемский, кажется, остался при своем мнении”.
ГЛАВА II
Окончание университетского курса и влияние, оказанное на Писемского университетом. – Служебная деятельность и ее влияние на талант Писемского. – Сходство и различие в развитии талантов Писемского и Салтыкова. – Роман “Боярщина”. – Повесть “Нина”. – Женитьба Писемского и его семейная жизнь
Успех в роли Подколесина совпал в жизни Писемского с окончанием университетского курса, последовавшим в том же 1844 году. Писемский был выпущен со степенью действительного студента. Хотя он и сам свидетельствует, что университет дал ему не много, но мы все-таки утверждаем, что годы учебы не могли пройти в жизни Писемского совершенно бесследно. Странно было бы и требовать, чтобы университет внедрял в голову каждого студента целиком все те науки, которые изучаются на избранном им факультете. Дело университета заключается лишь в том, чтобы возбудить в юноше живой интерес к приобретению знаний и занятию науками, дать ему ключ к этим занятиям. Если затем юноша остается в центре просвещения, близко к очагам науг. и искусств, и если огонь, зажженный в нем университетом, успел сильно разгореться в его душе, он будет самостоятельно поддерживать этот огонь, продолжая учиться, усваивать любимую науку и в конце концов развивать ее. Но смешно и требовать, чтобы огонь продолжал сам собою гореть без перерыва и в случае, если юноша по окончании курса уедет в далекую глушь и там предастся какому-нибудь практическому делу, не имеющему ничего общего с усвоенными в университете знаниями. Естественно, что не поддерживаемый новыми материалами огонь начнет со временем гаснуть, приобретенные знания, не прилагаемые к жизни, будут мало-помалу испаряться. От всего университетского курса останется лишь общая закваска человека с высшим образованием, те идеи честности, гуманности и прогресса, какие каждый мало-мальски талантливый и неиспорченный юноша выносит из университета. Но, конечно, среда и жизнь могут так переработать человека, что и от этих идей не останется впоследствии и следочка. Прилагая эти соображения к Писемскому, мы не считаем большой бедой, что он не вынес из университета целиком всю премудрость математического факультета, курс которого окончил. Для чего пригодилась бы вся эта премудрость, если бы даже он вместил ее в себя в таком количестве, как Лобачевский? Совершенно достаточно, что рядом с положительными, хотя бы и самыми элементарными, знаниями Писемский вынес из университета кое-какую начитанность, познания в литературах западной и русской, а главным образом, увлечение Белинским, Гоголем и Жорж Санд, что ставило его во всяком случае впереди своего века. Если бы с этим умственным багажом он остался в Москве, примкнул к каким-нибудь литературным или философским кружкам, продолжал бы читать, учиться, развиваться; если бы – еще лучше – поехал за границу, подобно Тургеневу или Грановскому, доучиваться в западных университетах, то, конечно, он и до конца дней своих продолжал бы оставаться в первых рядах своих современников не только по своему художественному таланту, но и как мыслитель. К сожалению, крайний недостаток средств заставил Писемского по окончании университетского курса спешить на родину, на долгие годы заточить себя в провинциальной глуши и тянуть служебную лямку ради прокормления себя и семьи. Нет ничего мудреного, что университетские образование и закваска с каждым годом все больше испарялись под влиянием той невежественной и полудикой провинциальной среды, в которую попал юноша, и когда, в пятидесятых годах, Писемский явился в Петербург, он, как мы увидим, поразил петербуржцев своей провинциальной оригинальностью и, по словам Анненкова, “произвел на всех впечатление какой-то диковинки посреди Петербурга, причем все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми”.
Вот что говорит сам Писемский в своей автобиографии о первых годах своей жизни по окончании университетского курса:
“На моем успехе в 1844 г. в роли Подколесина кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мне предстояли горе и необходимость служить: отец мой уже умер, мать, пораженная его смертью, была разбита параличом и лишилась языка; средства к существованию были весьма небольшие. Все это понимая, я впал, по переезде моем в деревню, в меланхолию и ипохондрию, из какой спасла меня любовь. Еще ранее того, во время моего гимназического и университетского воспитания, я влюблялся идеально в моих кузин, из которых первая описана в лице Софи во “Взбаламученном море”, а вторая – в лице Марии в “Людях сороковых годов”; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена, во-первых, в романе моем “Боярщина”, в отношениях Эльчанинова к Анне Павловне, и потом второй раз в “Людях сороковых годов”, в отношениях Вихрова к Фатеевой. Но жизнь и родные не удовлетворялись этим моим блаженством, как не удовлетворялась им и моя собственная совесть, тем более что написанный мною тогда роман “Боярщина” как протест против брака был прямо прихлопнут цензурой; значит, надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествием, и потому я решился, во-первых, посвятить себя службе, а потом жениться, избрав для этого девушку совершенно уже не кокетку, из семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною во “Взбаламученном море” в лице Евпраксии, которой сверх того придано в романе название Ледешка”.
В пояснение этого лаконического конспекта нескольких лет жизни Писемского считаем долгом прежде всего познакомить читателей наших со служебной деятельностью Писемского. Первоначально, тотчас же по окончании университетского курса, Писемский поступил в костромскую палату государственных имуществ, а затем перешел в подобную же палату московскую. В 1846 году он вышел в отставку и два года прожил в провинции, увлекаясь в это время тою жорж-сандовскою свободною любовью, о которой он говорит в своей автобиографии. В 1848 году, после женитьбы и по настоянию родных, он вновь поступает на службу, на этот раз чиновником по особым поручениям к костромскому губернатору, которым являлся в то время известный впоследствии петербургский генерал-губернатор князь Суворов. В 1849 году Писемский был назначен асессором костромского губернского правления и прослужил в этой должности до 1853 года. Вышедши в этом году в отставку и переселившись в Петербург, в 1854 году он был определен в министерство уделов, при котором состоял до 1859 года. С этого года и до 1866-го Писемский нигде не служил, предаваясь исключительно одной литературной деятельности. В 1866 году он опять сделался советником московского губернского правления. Здесь он дослужился до старшего советника и в 1872 году окончательно вышел в отставку в чине надворного советника. Вот что, между прочим, говорит в своей речи на юбилее Писемского Алмазов по поводу его служебной деятельности:
“Говоря о влияниях, которые отразились на нашем юбиляре, я должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое сильно подействовало на развитие его таланта. Большая часть наших писателей, изображающих чиновничий быт и служебную сферу, знают то и другое только с виду или даже просто по слуху. Они или служили в каких-нибудь канцеляриях и знают службу только по канцелярским формам, или просто только числились по службе и даже мало знакомы с физиономиями своих начальников и еще меньше с физиономиями своих товарищей и подчиненных. Но Писемский отнесся совсем иначе к службе, чем эти господа: он, можно сказать, отдался всею душою служению русскому государству и, служа, только и думал, как бы побороть ту темную силу, с которой борются и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества. Чтоб показать вам наглядно, какими мыслями и чувствами руководился он в своей служебной деятельности, приведу место из его романа “Тысяча душ”. Вот что говорит Писемский о своем герое Калиновиче, назначенном вице-губернатором в одну из тех губерний, где в самом роскошном виде процветали взяточничество, казнокрадство и всевозможные превышения власти:
“Калинович мог действительно быть назван представителем той молодой администрации, которая хотя болезненно, но заметно уже начинает пробиваться то тут, то там сквозь толстую кору подьяческих плутней Как сознательный юрист молодой вице-губернатор еще на университетских скамейках, по устройству собственного сердца своего, чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства, с возможным отпором всех домогательств сословных и частных. В управлении приняты им были те же основания”.
Взгляд на государство и на службу, приписанный здесь герою романа, есть взгляд самого автора; им руководился он постоянно при исполнении своих служебных обязанностей, и мы смело можем сказать, что он много принес пользы на службе, хотя никогда не занимал видных должностей. Я укажу вам на одну замечательную сторону служебной деятельности Писемского – на его деятельность как следователя по уголовным преступлениям. Тут он изучал каждого преступника, как изучает добрый и старательный врач каждого больного; оставаясь буквально и неумолимо верен закону, он относился к допрашиваемому преступнику с таким участием, с такою любовью, что и тот начинал любить его и рассказывал про себя все потому только, “что уж он больно хороший и умный барин”.
Я сказал здесь о службе Писемского не для того, чтобы хвалить его как чиновника; оценка его служебной деятельности не должна войти в мою речь, имеющую целью указать только на литературные заслуги нашего юбиляра. Но эти заслуги близко связаны со служебной его деятельностью. Вы понимаете, какой огромный материал для своих литературных произведений приобрел автор, служа так усердно интересам русского государства, как глубоко узнал он чиновничий люд, как глубоко проник в душу русского человека”.
В этом смысле есть нечто общее в характере развития талантов Писемского и Салтыкова. Последний, подобно Писемскому, долгое время был погружен в провинциальную жизнь и, принужденный тянуть служебную лямку, точно так же имел возможность близко познакомиться с провинциальной жизнью как в административных ее сферах, так и во всех прочих, с парадных и закулисных ее сторон, и результат был в некоторых отношениях одинаковый. Глазам обоих писателей провинциальная жизнь представилась во всей своей грубой и дикой некультурности; поражали крайняя мелочность интересов и полное отсутствие как общественных принципов, так и самых элементарных нравственных правил. Примите при этом в соображение, что то была предреформенная эпоха сороковых и пятидесятых годов, когда старый патриархальный и крепостной строй жизни был расшатан до последней степени, когда казалось, что все вокруг разваливается, и повсюду господствовал полный разгул взяточничества, казнокрадства, дикого помещичьего произвола и общего безначалия. За деньги все, что угодно, можно было купить, сделать; можно было скрыть любые концы. Жизнь интеллигентных классов имела характер беспрерывной дикой и разнузданной оргии; не предвиделось и конца общему веселью, а между тем экономический кризис был на носу и помещичьи имения начинали уже одно за другим продавать с аукциона. Понятно, что долгие годы созерцания такого внушительного зрелища привели к одному и тому же результату как для Салтыкова, так и для Писемского. У обоих этих писателей отпала всякая охота не только к малейшей идеализации русской жизни, но и к вполне реальному изображению светлых и положительных сторон ее. У обоих писателей в равной степени вы не найдете и следа каких бы то ни было поэтических образов, которые в таком обилии встречаются у других писателей сороковых годов, например у Тургенева, Гончарова, Григоровича, Л. Толстого, Некрасова, Островского и пр.: ни восхитительных пейзажей, ни очаровательных женщин, ни волшебных свиданий в ночной тиши. Если встречается в произведениях обоих этих писателей любовь, то или в комическом и пошлом виде, или в низменно-грязном, у обоих провинциальная среда оказывается состоявшей исключительно из безобразных чудовищ и уродов, поражающих вас своей культурной грубостью, отсутствием самых элементарных понятий о совести и чести и разнузданным цинизмом. Но на этом и кончается, конечно, сходство Писемского с Салтыковым, а затем начинается полная противоположность. В продолжение своей петербургской жизни, между лицеем и ссылкой, Салтыков вращался в самых передовых кружках петербургского общества. И в этот период он не только близко познакомился с теми общественными идеалами, которыми в то время жила Европа, но и глубоко запечатлел их в своей восприимчивой и чуткой душе. Идеалы эти сделались святыней его на всю жизнь, и не в состоянии были исторгнуть их из его души ни долгие годы изгнания, ни служебная деятельность среди малокультурных людей. Идеалы эти явились обратной стороной всех обличений Салтыкова. Читая произведения его, вы видите перед собою отнюдь не озлобленного пессимиста, который, рисуя картину жизни безнадежно мрачными красками, предоставляет вам думать, что таков нормальный и общий порядок и что всегда и везде так было, есть и будет; напротив, перед вами горячий идеалист, который смеется над окружающими его безобразиями как над чем-то крайне ненормальным, преходящим и верит в возможность иного, лучшего устройства жизни, разумного и справедливого.
Совсем не то – Писемский. Воспринявши в университете кое-какие новые веяния крайне поверхностно и туманно, он затем сразу окунулся в среду, не имевшую ничего общего с этими веяниями. Вся жизнь этой среды шла совершенно вразрез с ними, а между тем в глазах юноши это была стародавняя жизнь, освященная вековыми традициями, в духе которых он сам был воспитан. И все же сама по себе среда эта не заслуживала никаких положительных красок. Следуя влиянию Гоголя, Писемский стал изображать ее в том безобразном виде, в каком она ему представлялась; но вместе с тем, видя вокруг себя общий отпор тем новым идеалам, которые вынес он из университета, и крайнее несоответствие этих идеалов с окружавшей его жизнью, он проникся скептицизмом по отношению и к самым этим идеалам. Малейшая возможность осуществления их начала ему казаться невообразимым абсурдом, тем более что жалкие попытки такого осуществления в невежественной среде, при всеобщей расшатанности нравов, носили печать невообразимой пошлости и карикатурности. Писемский сам, как мы сейчас видели из его автобиографической записки, вскоре по окончании университетского курса предпринял одну из таких попыток – попытку свободной любви под влиянием чтения Жорж Санд – и на своем личном опыте смог убедиться в несостоятельности подобных экспериментов. Не только вся окружающая среда в лице его родных, но и его собственная совесть, воспитанная в вековых традициях, восстали против новатора.
Получилось отрицание ради отрицания, и в результате– тот крайний пессимизм без малейшего просвета, который, рисуя ряд вопиющих безобразий жизни, отвратительную пошлость и грязь, заставляет вас думать, что иной, более идеальной жизни не может и быть, так как человек по самой своей натуре – подлец, помышляющий лишь об угождении своей плоти и готовый ради своих своекорыстных расчетов и низменных побуждений поступиться всеми своими самыми заветными святынями.
Но в повести “Боярщина”, которую Писемский писал спустя год по выходе из университета, то есть в 1845 году, как раз в то время, когда переживал он свою жорж-сандовскую любовь, мы видим пока только проблески того крайнего пессимизма, который овладел им впоследствии. По всей вероятности, университетская закваска была еще свежа, и это не позволило ему сразу проникнуться безысходным скептицизмом. По крайней мере, в “Боярщине” заметны еще кое-какие попытки рисовать жизнь не в одних темных тонах, но и в светлых. Так, не лишена привлекательности героиня повести, Анна Павловна. Правда, она, как и все женщины в произведениях Писемского, – существо настолько лишенное малейшей воли и энергии, что беспрекословно позволила выдать себя замуж за грубого Задор-Мановского, терпела все его наглые оскорбления и никогда по своей инициативе не решилась бы бросить мужа, если бы Савелий не схватил ее в охапку и бесчувственную не отвез к Эльчанинову. Но это не мешает ей все-таки производить на читателей светлое впечатление чистотой и духовностью своей страсти, которая оказалась настолько сильной, что молодая женщина не смогла перенести измены Эльчанинова и умерла, потрясенная горем. С другой стороны, еще более привлекает вас Савелий, которого Писемский характеризует таким образом:
“Молодой человек, которого называли одним только полуименем Савелий, был такой же дворянин, как Эльчанинов, как предводитель, как даже сам граф; но у него было только несколько десятин земли и выстроенный на той земле маленький деревянный флигель. Он с трудом умел читать, нигде не служил, но, несмотря на бедность, на отсутствие всякого образования, он был в высшей степени честный, добрый и умный малый. Он никогда никому не жаловался на свою участь и никогда не позволял себе, подобно другим бедным дворянам, просить помощи у богатых. Он неусыпно пахал, с помощью одного крепостного мужика, свою землю и таким образом имел кусок хлеба. Кроме того, он очень был искусен в разных ремеслах: собственными руками выстроил себе мельницу, делал телеги, починивал стенные часы и переплетал, наконец, книги”.
Несмотря на тяжкое положение Анны Павловны под гнетом мужа, ни ей, ни тем более легкомысленному и бесхарактерному Эльчанинову, более склонному к тайному адюльтеру, чем к открытой и честной любви, не пришло бы и в голову сойтись открыто, если бы это не устроил Савелий, принявший горячее участие в судьбе Анны Павловны, так как втайне любил ее. После же того, как она умерла на его руках, он отправился на службу на Кавказ пешком. В лице этого Савелия Писемский, очевидно, воздал долг памяти своему отцу, старому кавказскому служаке, отличавшемуся неподкупной честностью и не признававшему иного способа передвижения, кроме как пешком или верхом на лошади. Но этими двумя личностями и ограничиваются светлые краски в первом произведении Писемского. В общем роман производит самое безотрадное впечатление. Хотя Писемский и утверждает, что посланный в 1847 году в редакцию “Отечественных записок” роман был “прихлопнут” цензурою за протест против брака, но смеем думать, что это не совсем верно. Без сомнения, цензура того времени была смущена не столько протестом против брака, сколько общим мрачным колоритом романа, массой невообразимой грязи, выведенной автором наружу, да к тому же сенсационным заглавием “Боярщина”. Правда, под этим словом разумелось название волости, где происходило действие; но при наклонности цензуры того времени читать между строк и отыскивать тайные намерения авторов, скрывающиеся за благовидными и легальными формами, подобному заглавию легко можно было приписать преступное значение; этому могло способствовать и то, что тогда цензура особенно преследовала отрицательное отношение беллетристики к дворянскому классу. Что же касается протеста против брака, то он в значительной степени смягчается и, можно сказать, почти совсем нивелируется тем обстоятельством, что как ни грубо и жестоко было обращение с Анной Павловной мужа, бесчеловечно черствое отношение к ней Эльчанинова оказалось еще возмутительнее: несчастная женщина не только не была осчастливлена свободной любовью, а, напротив, попала из огня в полымя. И тем более возмущает вас Эльчанинов своим дрянным поступком по отношению к Анне Павловне (он поиграл с нею и затем бросил или, лучше сказать, постыдно, тайком, как вор, бежал от нее, уехав в Петербург на чужие деньги), что – в то время как Задор-Мановский лишен всякого образования, грубо невежествен и вследствие одного этого заслуживает некоторого снисхождения – он получил высшее образование, кончив, хоть и с горем пополам, университетский курс. Он был, таким образом, один из тех передовых светил, которые ниспускались в провинцию из столиц и являлись в те годы своего рода солью земли, героями времени и покорителями женских сердец. И вдруг нигде не учившийся лапотник Савелий оказался в несколько раз и честнее, и благороднее, и гуманнее его. Итак, в конце концов получился протест вовсе не против брака, а против тех шарлатанов высшей образованности, поверхностных дилетантов и фразеров, которые под внешним блеском передовых идей скрывали бесхарактерность, дрянность, сердечную черствость и пустоту.
Не допущенный к печати роман “Боярщина”, как и все в то время запретное, тотчас же распространился в публике в рукописном виде, и таким образом Писемский приобрел некоторую известность прежде еще, чем были опубликованы его произведения.
Следующий затем рассказ “Нина” стал первым произведением Писемского, появившимся в печати. Его можно было прочесть в июльской книжке “Сына отечества” за 1848 год. По словам Алмазова, рассказ этот был напечатан в таком сокращенном и измененном виде, что автор и не перепечатывал его потом; он вошел лишь после смерти Писемского в полное собрание его сочинений (издание Вольфа, 1884 год, т. IV). Тем не менее и в том виде, в каком рассказ этот дошел до нас, он весьма характерен: в нем Писемский еще далее пошел по пути пессимизма, на который вступил в “Боярщине”.
Работая над “Боярщиной”, Писемский верил еще в возможность такой идеальной и в то же время сильной и всепоглощающей женской страсти, разочарование в которой способно свести женщину в могилу. В “Нине” он беспощадно смеется над этой своей юношеской, романтической верой. Он показывает провинциальную девушку, Нину, дочь сына аптекаря, неисправимого старого романтика Вильгельма Федоровича, и прозаически русской помещицы Феклы Петровны. В Нине рассказчику грезилась загадочная натура не от мира сего, нечто вроде Миньоны.
“Не знаю, почему, – говорит герой романа, – я в этой девушке предполагал многое. Нельзя сказать, чтобы она была красавица; но она была очень мила; высокая не по летам, стройная, с маленькой головкой, но в то же время с прекрасно развитой грудью; в больших темно-голубых глазах ее и в детской улыбке была видна какая-то задумчивость, что придавало ее круглому личику такое выражение, как будто бы она о чем-то постоянно грустила, и мне казалось, что это была тоска Миньоны по небесам. “Не для здешнего мира рождена ты!” – часто думал я, глядя на нее; но иногда мысли мои менялись; я представлял Нину через десять и двадцать лет – и невольно задавал себе вопрос: что будет тогда с нею? Странное дело – этот вопрос всегда решался одинаковым образом: мне казалось, что рано или поздно на это спокойное теперь создание пахнёт суровое горе жизни и что Провидение наложит на нее крест тяжелых испытаний, а я буду утешать ее. Мало этого, мне казалось, что ее страдания проистекут из собственных ее заблуждений, которые постигнут ее потому, что она, как мне казалось, вполне наследовала художественную натуру отца, следовательно – натуру, способную увлекаться и ошибаться; в этой мысли меня еще более убеждало то, что Нина прекрасно пела и играла на фортепиано. Были даже минуты, когда я, в порыве моей мечтательности, думал жениться на Нине и с полным вниманием развить все ее прекрасные наклонности и предохранить ее от неизбежного зла”.
Предчувствие рассказчика начало, по-видимому, сбываться, когда провинциальный лев, блистательный богатый красавец Мазурин, вскруживший одним своим появлением головы всем уездным барышням, поухаживал немного за Ниной, а затем перестал удостаивать ее вниманием, – и Нина, как казалось герою, поверглась в самое безнадежное отчаяние. Отлучившись из города по случаю смерти отца, герой был вполне уверен, что Нина не перенесет своего отчаяния и умрет преждевременной смертью. Каково же было удивление его, когда по возвращении в город он встретил Нину не только живой и здоровой, но похорошевшей, пополневшей, вышедшей замуж за толстого барона и до такой степени усвоившей пошлые нравы уездных барынь, что, когда герой намекнул ей о прошлых ее страданиях, она лишь промолвила с гримасой: “Старые глупости!”
“Итак, – думал герой, – Нина не умерла, Нина вышла замуж; Нина хозяйничает, бранит слуг, командует мужем, помешана на визитах и сплетнях! А я думал, что она не для здешнего мира рождена! Неужели мне целый век суждено ошибаться в людях? Неужели она так изменилась? Нет, всегда она, видно, была такая, но только я придал ей то, что мне хотелось видеть в ней, и Нину живую облек в форму Нины мечтательной. Дай мне Бог так ошибаться весь век и видеть человека лучшим, нежели он в самом деле!..”
Но Бог судил Писемскому как раз обратное: именно – видеть людей худшими, чем они есть на самом деле!..
Время появления в печати первой повести Писемского совпало с женитьбою его. В 1848 году 11 октября, как сообщает он в своей автобиографии, он сочетался браком с дочерью основателя “Отечественных записок”, Екатериной Павловной Свиньиной, двоюродной сестрой известного поэта Аполлона Майкова.
Судя по всем данным, это был брак не по страсти, а по разумному выбору. Во-первых, повесть “Нина” свидетельствует о том, какими холодными глазами глядел уже в то время Писемский на любовь и как успел разочароваться в юных романтических мечтаниях. А во-вторых, он и сам в своей автобиографии говорит, что для женитьбы он “избрал девушку совершенно уже не кокетку, из семьи хорошей, но небогатой”, и далее свидетельствует, что жена его выведена им во “Взбаламученном море” в лице Евпраксии, образцовой жены и матери, но женщины холодной, рассудительной, не способной внушать мужчинам пылкие страсти, за что автор и дал ей в романе название Ледешка.
Тем не менее выбор Писемского был как нельзя более удачен, потому что жена его, по общему мнению всех знавших ее, была женщина редких достоинств. Так, по словам Анненкова, “эта примерная женщина умела успокоить его болезненную мнительность и освободила его не только от забот по хозяйству и воспитанию детей, но, что важнее, освободила его и от своего вмешательства в его личную, интимную жизнь, тоже исполненную капризов и порывов; она же и переписала на своем веку по крайней мере две трети всех его сочинений с черновых оригиналов, представлявших всегда страшно запачканную макулатуру из кривых строчек, крупных каракуль и чернильных пятен”.
Нечто подобное сообщил биографу Писемского г-ну Венгерову в разговоре и один писатель, хорошо знавший чету Писемских.[3] По словам этого писателя, “вообще Екатерина Павловна представляет собою настоящий тип “литературной жены”, жившей всеми литературными тревогами и треволнениями мужа, близко принимавшей к сердцу все перипетии его творчества, лелеявшей его талант и что было в ее возможности делавшей для того, чтобы талант этот был поставлен в наиболее выгодные для своего развития условия. Ко всему этому присоединялась бесконечная снисходительность, которой нужно было иметь очень большой запас, чтобы выносить “порывы” покойного Алексея Феофилактовича, не всегда безукоризненно семейного характера…”
Наконец, и Тургенев в одном из писем своих, увещевая Писемского не хандрить, между прочим писал ему:
“Я уже, кажется, вам сказал раз, но ничего, можно повторить! Не забывайте, что вы выиграли главный куш в жизненной лотерее [4]: имеете прекрасную жену и славных детей…”
ГЛАВА III
Приглашение Писемского молодой редакцией “Москвитянина”. – Повести “Тюфяк” и “Брак по страсти”. – Впечатление, произведенное ими на современников. – Беспринципность и пессимизм творчества Писемского под влиянием провинциальной среды. – Отношение Писемского к передовой интеллигенции, к типам рудинскому и печоринскому. – Эстетические воззрения Писемского и аналогия между его жанром и французским натурализмом
Около этого времени, то есть в конце сороковых и начале пятидесятых годов, произошло, как известно, в Москве разделение славянофилов на две ветви. Между тем как старые славянофилы: Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Самарин и пр. – сгруппировались вокруг “Московского сборника”, а впоследствии вокруг “Русской беседы”, “Москвитянин” Погодина сделался органом новой группы молодых славянофилов, впоследствии получивших название почвенников. Кружок состоял из литераторов, успевших уже приобрести большую или меньшую известность, каковыми были Аполлон Григорьев, Алмазов, Эдельсон, Т. Филиппов, А.Н. Островский, A.A. Потехин и пр. Желая привлечь в качестве сотрудников молодые и многообещающие силы, редакция обновленного журнала послала в 1850 году приглашение и Писемскому, так как к этому году “Боярщина” его успела уже получить значительное распространение и Писемский был уже достаточно известен в литературных кружках. Это приглашение ободрило Писемского, который совсем уже было забросил свое перо и весь предался службе; он послал в редакцию давно уже лежавшую в его портфеле повесть “Тюфяк”, которая и была напечатана в “Москвитянине” в том же 1850 году, а затем, в 1851 году, появилась в “Москвитянине” же повесть “Брак по страсти”.
Обе эти повести имели неимоверный успех и сразу поставили Писемского в один ряд с лучшими писателями его времени. Чтобы читатели могли судить, какое впечатление произвели эти повести на современников, приводим свидетельство об этом Анненкова:
“Хорошо помню впечатление, произведенное на меня в глуши провинциального города, – который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, – первыми рассказами Писемского “Тюфяк” (1850) и “Брак по страсти” (1851) в “Москвитянине”. Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались, и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выведенных. Тут била прямо в глаза русская мещанская жизнь, вышедшая на Божий свет, торжествующая и как бы гордящаяся своей открытой дикостью, своим самостоятельным безобразием. Комизм этих картин возникал не из сличения их с каким-либо учением или идеалом, а из того чувства довольства собой, какое обнаруживали все нелепые герои в среде бессмыслиц и невероятной распущенности. Смех, вызываемый рассказами Писемского, не походил на смех, возбуждаемый произведениями Гоголя, хотя, как видно из автобиографии нашего автора, именно от Гоголя и отразился. Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на “затаенные слезы” – не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, т. е. самая редкая у новейших писателей, – та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековые фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток.
Некоторые из мыслящих людей эпохи долго даже и не могли примириться с этой веселостью; им все казалось, что восторги перед голым комизмом изображений однородны с восторгами толпы на площади, когда ей показывают балаганного Петрушку с горбом на спине и другими физическими уродливостями. Так, весьма требовательный и весьма зоркий критик В.П. Боткин говорил еще несколько позднее, что он не может сочувствовать писателю, который, при несомненном таланте, не обнаруживает никаких принципов и не кладет никакой мысли в основу своих произведений…”
И действительно, в эпоху, когда литература успела уже поднять ряд тревожных вопросов, когда начинался анализ русской действительности с точки зрения новых идеалов, выдвинутых критикой Белинского и статьями Герцена, когда Некрасов начал петь свои горькие песни, Тургенев писал “Записки охотника”, Григорович прославился своим “Антоном-Горемыкой”, а Достоевский – “Бедными людьми”, повести Писемского не могли не поразить читателей своей беспринципностью, безыдейностью и необузданным разгулом чисто физиологического смеха.
Так, в повести “Тюфяк” тщетно будете вы искать хоть одно лицо, которое примирило бы вас с жизнью и на котором вы могли бы отдохнуть душою, не исключая и героя повести, Павла Васильевича Бешметева (он же “Тюфяк”). Правда, можно предположить, что образ Бешметева – отдаленный намек на то, что переживал тогда сам автор. Я вовсе не хочу этим сказать, что Бешметев хотя бы чуть-чуть напоминает Писемского. Но последний сам именно в это время переживал тяжкую борьбу с провинциальной средой и в герое своей повести выразил весь испытываемый им самим ужас засасывания образованного человека смрадным болотом уездной глуши. Тем не менее Бешметев со своей несчастной судьбою изображен в таком карикатурном виде, что не только нимало не привлекает вас хотя бы одной положительной чертой, но и не возбуждает ни малейшей жалости к себе. Перед вами вовсе не трагический герой, падающий в неравной борьбе, засасываемый болотом, но в то же время делающий неимоверные усилия вырваться из его грязных хлябей. Ничуть не бывало. Вы видите перед собою человека, являющегося продуктом окружающей его среды, ничем не возвышающегося над нею и апатично предоставляющего ей засасывать себя без малейшего сопротивления со своей стороны. Он кончил университетский курс, готовился к магистерскому экзамену; имел, таким образом, все шансы возвышаться целой головой над провинциальной средой. Но наука, снабдив его знаниями, не дала в то же время ни малейшего нравственного закала, а напротив, увела его от жизни, заставила его потерять всякое чутье действительности. Его крайняя застенчивость стала результатом затворнической жизни. Он является в провинциальную среду совершенным младенцем, не умеет ни отстаивать, ни высказывать своих мыслей, не знает, как ему в обществе ходить, сидеть, держать себя. Вместе с тем бесхарактерность его доходит до такой степени, что стоит родным его дружным хором восстать против намерения его продолжать учиться, чтобы он тотчас же растерялся, впал в полное сокрушение и разорвал в отчаянии все свои книги и бумаги.
А затем им начали двигать, как истуканом, и он без малейшего сопротивления делал то, что ему внушали: определился на службу, женился на девушке, в которую, правда, был влюблен, но у него не хватило ни смелости, ни характера самому поухаживать за нею, а когда другие сосватали ему ее, у него недостало решимости расспросить ее, нравится ли он ей и любит ли его она. Понятно, что такой манекен, к тому же крайне неуклюжий, неловкий, не умевший связать двух-трех слов, не мог ничего внушить жене, кроме отвращения, тем более что она и пошла-то за него лишь ради его состояния, будучи влюблена в то же время в другого. Когда же она начала ему изменять и он узнал об этом – и тут не хватило у него характера разойтись с нею честно. Он начал пить горькую и окончательно потерял человеческий образ. И если до сих пор он представлял собою хоть тень жертвы среды, то теперь ничем не выделялся уже над нею. Если судить по тому, как он обращается с женой в деревне, – перед вами не человек высшего образования, а чистейший азиат. По крайней мере ничего, кроме отвращения, не возбуждают в вас сцены, которые он постоянно начал делать своей постылой супруге:
“Герой мой, – говорит автор, – в своем желчном расположении, в бездействии и скуке, не замечая сам того, начал увеличивать обычную порцию вина, которое он прежде пил в весьма малом количестве. Обед был, как я и прежде замечал, единственное время, в которое супруги виделись. К этому-то именно времени Павел и делался значительно навеселе. В подобном состоянии неприязненное чувство к жене возрастало в нем до ожесточения, и он ее начинал, как говорится, шпиговать.
– Что, Константин, – говорил, например, он, обращаясь к стоявшему лакею, – не хочешь ли, братец, жениться?
– Никак нет-с, Павел Васильевич, – отвечал тот.
– Отчего же, братец? Ничего!.. Будет только на свете лишний дурак.
– Сохрани Бог, Павел Васильевич, – возражал лакей.
– Дал мне Бог ум и другие способности, – рассуждал потом Павел вслух, – родители употребили последние крохи на мое образование, и что же я сделал для себя? Женился и приехал в деревню. Для этого достаточно было есть и спать, чтобы вырасти, а потом есть и спать, чтобы умереть.
– Кто же вас заставлял жениться? – возражала Юлия.
– Собственная глупость и неблагоприятная судьба. Юлия пожимала только плечами.
– Сегодня именины у Портновых, и у них, верно, бал, – сказал однажды Бешметев. В этот день он был даже пьян. – Как вам, Юлия Владимировна, я думаю, хотелось бы туда попасть!
Юлия не отвечала мужу.
– Вы бы там увиделись и помирились с одним человеком; он бы вас довез в своем фаэтоне, а может быть даже вы бы и к нему заехали и время бы провели преприятно.
Юлия не могла этого вынести и залилась слезами.
– Подлый и низкий человек! – в состоянии была только проговорить она и ушла к себе в комнату. Целый день после того она плакала”.
После таких сцен Бешметев, понятно, еще менее возбуждает в вас участия, и трагическая смерть его нимало не трогает вас.
В повести же “Брак по страсти” Писемский идет еще далее в изображении отрицательных сторон современных нравов. Это коллекция исключительно одних только нравственных уродов, агломерат грязи, беззастенчивой лжи, лицемерия, своекорыстия, коварного предательства и взаимного поголовного надувательства. Что касается главного героя, Сергея Петровича Хазарова, отставного поручика, то о красоте его автор отзывается так: “О подобных физиономиях существует два совершенно противоположных мнения. Одни говорят, что это – красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливыми рожицами, моськами, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке”. При такой своеобразной красоте и нежном, влюбчивом сердце, Хазаров является тем не менее вполне кандидатом в червонные валеты и с каждой страницей становится в глазах ваших гаже и гаже, так что в конце концов вы не можете решить, в чем он подлее – в ухаживании ли своем за Мари Ступицыной, страсть к которой разгорается в нем особенно сильно, когда он узнает, что за девушкой назначено солидное приданое, в страстном ли объяснении в любви Варваре Александровне Мамоновой, с целью сделаться при ней альфонсом и выпутаться из долгов посредством ее денег, или же в бесчеловечном и исполненном черной неблагодарности выпроваживании взашей квартирной хозяйки Замшевой, пришедшей к нему напомнить о старом долге.
Но если хорош Ромео, то и Джульетта, в лице Марии Ступицыной, нимало ему не уступает. Наивный ребенок, только и занимавшийся игрою с котятами, она быстро превращается в женщину, знающую себе цену и не дающую себя в обиду. Это не Анна Павловна, способная умереть от безответной страсти, и когда муж охладевает и изменяет ей, она, в свою очередь, тотчас же пускается в амуры со смазливеньким офицером.
Единственной добродетельной личностью в повести является Варвара Александровна Мамонова, женщина бальзаковского возраста, поклонница Жорж Санд, мечтающая о женской эмансипации; она одна из всех действующих лиц повести способна на бескорыстный порыв, любит покровительствовать молодым людям, пылающим взаимною нежною страстью, и не жалеет денег, содействуя их соединению. Но в то же время она – непроходимая сентиментальная дура, которую ничего не стоит водить за нос пройдохам и плутам вроде Хазарова. Чтобы сделать ее фигуру еще более карикатурной, Писемский не преминул ввернуть саркастическую черточку, показывающую, как он к началу пятидесятых годов начинал уже относиться к вопросу о женской эмансипации:
“В последнее время Варвара Александровна сделала еще шаг в прогрессе эмансипации: она стала курить. На первых порах этот подвиг был весьма труден для молодой дамы; у ней обыкновенно с половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока; но чего не сделает женщина, стремящаяся встать в уровень с веком? Мамонова приучила свои нервы и в настоящее время могла уже выкуривать по три папиросы вдруг”.
Таким образом, уже вот когда начинает мало-помалу развиваться в Писемском скептицизм относительно всех новых веяний. Скептицизм этот имел отнюдь не какой-либо принципиальный характер, а был прямым следствием того “заедания” средою, какому подвергся Писемский во время своей жизни в провинции. Год от году университетские влияния сглаживались, наружная чешуя спадала, а под этой чешуей обнаруживался мелкопоместный дворянин со всем тем захолустным миросозерцанием, какое свойственно было его землякам одного с ним круга. Он словно возвращался помаленьку под отчий кров.
В самом деле, вы только вдумайтесь в характер пессимизма, окончательно выявившегося в “Тюфяке” и “Браке по страсти”, и сличите его с миросозерцанием нетронутого цивилизацией среднего человека уездной глуши – и вас сразу поразит тождество того и другого. В основе этого миросозерцания – вследствие тяжкого опыта борьбы за существование в среде, чуждой всяких духовных интересов, – лежит убеждение, что человек по существу своему подлец, руководящийся одними практическими расчетами, разными своекорыстными, а подчас и грязными побуждениями, а посему с каждым ближним надо держать ухо востро и иметь камень за пазухой. Отсюда прямо проистекает то поголовное взаимное осуждение друг друга, когда не прощается ближнему ни одна комическая черта или слабость; нет правых, и все в одинаковой степени подозреваются и забрасываются грязью. Но с особенной строгостью обрушивается этот суд на всех тех, которые имеют претензию возвышаться над средой по своему уму, образованию или нравственным качествам. Это обусловливается, с одной стороны, тем, что на человека, желающего отличаться от всех, естественно возлагается и большая ответственность за поступки; а с другой, – здесь действует и совесть, желающая во что бы то ни стало оправдаться и возвыситься в своем ничтожестве: “А, ты воображаешь, что ты выше нас, а мы нисколько не хуже тебя, а пожалуй, будем и получше!”
Испытывая в продолжение долгих лет постоянное влияние этого уездного миросозерцания, Писемский невольно до известной степени заразился им.
Таким образом и возник этот смех ради одного смеха, поражавший современников своей беспринципностью, безыдейностью, безысходным пессимизмом. Обратите при этом внимание, что уже в первых повестях Писемского, задолго до появления его романа “Взбаламученное море”, люди высшего образования, передовых идей и новых веяний выводятся возмутительными негодяями и пошляками и в этом отношении далеко оставляют за собой самых безобразнейших уродов необразованной среды. До некоторой степени вы миритесь еще с тем фактом, что получивший высшее образование Эльчанинов в нравственном отношении пасует перед нигде не учившимся Савелием, так как у Савелия вы встречаете несколько черт положительных, заслуживающих полного уважения и симпатии. Герой же написанной в 1851 году повести “Богатый жених”, Шамилов, – претендующий на высшее философское образование, вечно возящийся с книгами, которых не в состоянии одолеть, со статьями, которые только начинает, с тщетными надеждами сдать когда-либо кандидатский экзамен, – не выдерживает сравнения даже с полоумным Степушкой, играющим роль шута, над которым все в обществе потешаются; даже и этот Степушка оказался вдруг и постояннее, и честнее в своей любви к Вере Павловне, чем Шамилов, погубивший своей дрянной бесхарактерностью девушку, затем как ни в чем не бывало женившийся по расчету на богатой вдовушке и кончивший жалкой ролью мужа, живущего на содержании и под башмаком злой и капризной бабы.
Осмеявши в Эльчанинове и Шамилове Рудиных, процветавших в то время на почве университетского образования и философского движения, не пощадил Писемский и не вполне сошедший еще со сцены в то время тип гусарско-печоринский. Правда, люди этого типа давно уже не красовались на столь высоком пьедестале, как в тридцатые годы, и не блистали в столичном большом свете; тем не менее продолжали еще встречаться нередко в провинции, где чуть ли не до конца пятидесятых годов обращались, как старые и истертые монеты. Подобного рода уездные демоны-сердцееды выведены Писемским в “Тюфяке”, в лице Бахтиарова, и в повести “M-r Батманов”, в образе героя, носящего эту самую фамилию, причем, совлекая с них великолепные байроновские плащи, беспощадный автор превращает их в самых заурядных и пошлых провинциальных хлыщей и заставляет кончать не какой-либо трагической смертью, а самым прозаическим браком с богатыми купчихами, – браком ради избавления от голодной смерти. Впрочем, одному только Бахтиарову удается вступить в законное супружество с племянницей тятенькиных миллионов и продолжать донжуанствовать, живя на иждивении своей жены; Батманов же, будучи в большей степени Печориным, чем Бахтиаров, кончает еще печальнее. Он уезжает в Сибирь и делается там просто-напросто альфонсом: под видом управителя делами одной пожилой и очень богатой вдовы-купчихи живет у нее в доме, ходит весь в бриллиантах, носит черкесское платье, ездит по городу на красивых рысаках и поит общество на убой шампанским. “Чем, подумаешь, не разрешалось русское разочарование!” – саркастически воскликнул Писемский в конце своей повести.
Беспринципность творчества Писемского лишь в самом начале его литературной деятельности носила характер наивной непосредственности. Мало-помалу в сознании писателя оформилась особенная эстетическая теория, которую Писемский исповедовал всю свою жизнь, находя в ней оправдание отсутствию в его произведениях идеалов и задач.
Чтобы познакомить читателей с эстетической теорией Писемского, мы прежде всего обратимся к критической статье его, которая была напечатана в “Отечественных записках” в 1855 году в связи с выходом в свет второй части “Мертвых душ” Гоголя.
В первой половине статьи автор дает характеристику русской литературы до Гоголя и в его время и указывает, что существенными недостатками нашей литературы до Гоголя были, во-первых, стремление выйти из себя, написать нечто сверх своих сил и душевного содержания, а во-вторых, – как результат этого – “сочинительство, книжность”. Недостатки эти замечает Писемский даже в наиболее реальных произведениях догоголевского периода, например в комедиях Фонвизина и в “Горе от ума” Грибоедова. А о современных Гоголю популярных писателях – Марлинском, Полевом, Кукольнике, Бенедиктове – и говорить нечего!
“Никто, конечно, не позволит себе сказать, – читаем мы в статье Писемского, – чтобы все эти писатели не владели талантами, и талантами, если хотите, довольно яркими, но замечательно, что все они, при видимом разнообразии, имеют одно общее направление, ушедшее совершенно в иную сторону от истинно поэтического движения, сообщенного было Пушкиным; направление, которое я иначе не могу назвать, как направлением напряженности, стремлением сказать больше своего понимания – выразить страсть, которая сердцем не пережита, – словом, создать что-то выше своих творческих сил”.
С Гоголя начинается новая эпоха в нашей литературе, потому что он все это пересоздает: он первый дает типический язык каждому типу. Но, по мнению Писемского, и Гоголь не был вполне свободен от тех же недостатков, присущих нашей литературе. Так, указывая на известные дидактические задачи, которые ставит Гоголь перед своим творчеством в “Авторской исповеди”, Писемский решительно отрицает их.
“На первый взгляд покажется, – говорит он, – что подобную задачу, достойную великого мастера, Гоголь принимает на себя с величайшей добросовестностью и что иначе приступить к ней нельзя, но надобно быть хоть немного знакомым с процессом творчества, чтобы понять, до какой степени этот прием искусствен и как мало в нем доверия к инстинкту художника. Положительно можно сказать, что Шекспир, воспроизводя жизнь в ее многообразной полноте, создавая идеалы добра и порока, никогда ни к одному из своих произведений не приступал с подобным наперед составленным правилом и брал из души только то, что накопилось в ней и требовало излияния в ту или в другую сторону. Поэт узнаёт жизнь, живя в ней сам, втянутый в ее коловорот за самый чувствительный нерв, а не посредством собирания писем и отбирания показаний от различных сведущих людей. Ему не для чего устраивать в душе своей суд присяжных, которые говорили бы ему, виновен он или не виновен, а освещая жизнь данным ему от природы светом таланта, он узнаёт и видит ее яснее всякого трудолюбивого собирателя фактов”.
На этом основании Писемский, будучи в восторге от всех отрицательных типов второй части “Мертвых душ”, в то же время относится крайне неодобрительно к типам Улиньки, Костанжогло и Муратова, считая, что они не взяты непосредственно из жизни, а сочинены, и находя в них “решительное преобладание идеи над формой”. При этом Писемский выражает свое сожаление, что между друзьями Гоголя, которым он читал вторую часть “Мертвых душ”, не нашлось искреннего голоса, который сказал бы ему:
“Ты писал не грязные побасенки, но вывел и растолковал глубокое значение народного смеха. Ты – великий, по твоей натуре, юморист, но не лирик, и весь твой лиризм поглощается юмором твоим, как поглощается ручеек далеко, бойко и широко несущейся рекою. Ты – не безнравственный писатель, потому что, выводя и осмеивая черную сторону жизни, возбуждаешь в читателе совесть. Неужели по твоей чуткости к пороку, к смешному ты не раскрываешь добра собственной души гораздо нагляднее какого-нибудь поэта, кокетствующего перед публикой поэтическим чувством? Смотри: одновременно с тобой действуют на умы два родственные тебе по таланту писателя – Диккенс и Теккерей. Один успокаивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, а другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцеведец, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту. Скажи, кто из них лучше совершает свое дело?”
Заканчивает же Писемский свою статью следующими многозначительными словами:
“Наконец, в заключение, могу пожелать всем нашим писателям настоящего времени, призванным проводить животворное начало Гоголя или внести в литературу свое новое, – одного: чтоб, имея в виду ошибки великого мастера, каждый шел по истинному пути, не насилуя себя и оставаясь к себе строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь со средствами своего таланта, публике правду”.
Нечто подобное высказывал Писемский двадцать лет спустя, в 1877 году, в письме профессору Буслаеву, писанном в ответ на присланную профессором речь о значении романа. Письмо это интересно в том отношении, что заключает в себе некоторые автобиографические данные о развитии эстетических воззрений Писемского. Это заставляет нас привести его целиком.
“Вы от романа, совершенно справедливо считаемого вами за самого распространенного и прочного представителя современной художественной литературы, требуете дидактики, поучения, так как он “может популяризировать всю необъятную массу сведений и многовековых опытов”. Действительно, не связанный ни трудною формою чисто лирических произведений, ни строгою верностью событиям исторических повествований, ни тесными рамками драмы, роман свободней на ходу своем и может многое захватить и многое раскрыть, но достигает ли он этого на практике, как только автор задал себе подобную задачу? На это безошибочно можно ответить, что нет! Некоторые романисты нашего века – французские, немецкие и английские – пытались явно поучать публику: в романе у Евгения Сю “Семь смертных грехов” показано, как наказываются на земле смертные грехи; у немцев есть, что какой-нибудь юный лавочник высказывает столько возвышенных мыслей и благородных чувствований, что читатель хочет-не хочет, а должен, по-видимому, слушаться сего юноши. У нас Чернышевский, в романе своем “Что делать?”, назначил даже современному человечеству, какую оно должно иметь квартиру и как та должна быть разделена. Но увы! Это глупое человечество не устрашилось нисколько представленными картинами Евгения Сю и продолжает по-прежнему творить смертные грехи; лавочнику никто не верит в искренности его слов, и он все-таки остается лавочником; квартир своих пока никто не делит и не устраивает по плану автора “Что делать?”, и всем сим поучительным произведениям, полагаю, угрожает скорое и вечное забвение. Но не такова судьба бывших старых романистов. Беру на выдержку: Сервантес, вряд ли думавший кого-либо поучать своим “Дон Кихотом”, явил только картину умирающего рыцарства, и она помнится всем читающим миром; Смоллетт, описавший морские нравы, дал нам такие из меди литые фигуры, по которым хорошо поймет каждый, какого закала английская раса; Вальтер Скотт запечатлел на веки вечные в умах человечества старую, поэтическую Шотландию; даже Жорж Санд, по-видимому, самая тенденциозная писательница (во времена моей и нашей молодости, вы, конечно, это помните, она считалась у нас в России растолковательницей и чуть ли даже не покровительницей Евангелия), но в этом случае, мне кажется, на нее совершенно клеветали, – Жорж Санд была не проповедница, а страстная, поэтическая натура. Она описывала только те среды, которые ее женское сердце или заедали, или вдохновляли. У нас ни Пушкин, создавший нам “Евгения Онегина” и “Капитанскую дочку”, ни Лермонтов, нарисовавший “Героя нашего времени” неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поучении и касательно читателя держали себя так: “Все это клади в мешок, а дома разберешь, что тебе пригодно и что нет”. В Гоголе, при всей высоте его комического полета, к сожалению, в конце его деятельности мы видим совершенно противоположное явление: сбитый с толку разными своими советчиками, лишенными эстетического разума и решительно не понимавшими ни характера, ни пределов дарования великого писателя, он еще в “Мертвых душах” пытался поучить русских’ людей посредством лирических отступлений и возгласов: “Ах, тройка, птица тройка!” – и в своем поползновении явить образец женщины в особе бессмысленной Улиньки (после Пушкинской Татьяны!), а в конце концов в переписке с друзьями дошел наконец до чертиков. Признаюсь, писем с подобными претензиями и в то же время фразистых и пошлых я не читывал ни у одного самого глупого и бездарного писателя. Но перехожу опять к роману, в отношении которого мое такое убеждение, что он, как всякое художественное произведение, должен быть рожден, а не придуман, что, бывши плодом материального и душевного организма автора, в то же время должен представить концентрированную действительность: будь то внешняя, открытая действительность или потаенная психическая; лично меня все считают реалистом-писателем, и я именно таков, хотя в то же время с самых ранних лет искренно и глубоко сочувствовал писателям и другого пошиба, только желал одного – чтобы было дело в умных руках. Подкреплю это примером. В конце тридцатых годов сильно гремел Кукольник своими патриотическими драмами и повестями из жизни художников с бесконечными толками об искусстве. Все это мне было противно читать, и я инстинктивно чувствовал, что нет тут ни патриотизма, ни драматизма, ни художества, ни художников, а есть только истерические крики! Затем, когда я уже сделался студентом, я прочел “Вильгельма Мейстера”. Не могу описать того благоговейного восторга, который овладел мною; из бесед и разговоров действующих лиц я познакомился с целой теорией драматического и сценического искусства. “Гёте, – воскликнул я, – точно выворачивает все мое нутро!.. Он осветил как бы искрой электрической все, что копошилось и в моих скудных помыслах о драматическом искусстве”. Потом другой пример: в половине сороковых годов стали появляться писатели, стремящиеся описывать тонкие ощущения и возвышенные чувствования выводимых ими лиц. Бедняжки, они при этом становились на цыпочки, вытягивали, сколько могли, свои мозговые руки, чтобы дотянуться до своих не очень высоких героев, и вдруг, как бы ради уничтожения сего направления, был переведен на русский язык (в “Современнике” кажется) роман Гёте “Предрасполагающее сродство”, где могучий поэт видимо без всякого труда и сверху переставил, как шашки, несколько лиц, исполненных тончайших ощущений и самого возвышенного образа мыслей. Ни дать ни взять, как вол обо… муравьев.
Чувствую, почтеннейший Феодор Иванович, что я написал вам не столько рассуждений и возражений, сколько исповедь своих личных эстетических воззрений. Но что же делать? Так написалось, и в заключение скажу еще два-три слова… Вы мне как-то говорили: “Вы, романисты, должны нас учить, как жить; ни религия, ни философия, ни наука вообще для этого не годится”. А мы, романисты, со своей стороны можем сказать: “А вы, гг. критики и историки литературы, должны нас учить, как писать”. В сущности, ни то, ни другое не нужно, а желательно, чтобы это шло рука об руку, как это и было при Белинском и продолжалось некоторое время после него. Белинский в этом случае был замечательное явление; он не столько любил свои писания, сколько то, о чем он писал, и – как сам, говорят, выражался про себя – он был недоносок художник (он, как известно, написал драму, и, по слухам, неудачную) и потому так высоко ценил доносков-художников”.
К этому всему можно прибавить свидетельство г. Авсеенко, что Писемский считал выше всего эпическое творчество, а также выраженное Писемским в письме к Тургеневу в апреле 1877 года по поводу романа “Новь” мнение, что художник прежде всего должен быть объективным и беспристрастным, и вовсе не обязан писать для услады каких-либо партий.
Итак, отрицание какого бы то ни было сочинительства, требование от художников одной правды и утверждение, что выше всего спокойное и беспристрастное эпическое творчество, чуждое какой бы то ни было партийности, – такова была сущность эстетических взглядов Писемского. Нечего и говорить о том, что по существу все эти положения, очень почтенные, составляют азбуку реализма. Но только сами по себе они не идут далее азбуки и далеко не исчерпывают всех задач искусства. Начать с того, что, прежде чем вы будете требовать от искусства правды, вы обязаны разъяснить нам, что вы подразумеваете под этой правдой и какой именно правды вы ожидаете от искусства. Правда правде рознь. Бывает правда глубокая, философская, определяющая цену и значение вещей и их взаимные отношения, бывает и правда внешняя, поверхностная, плоская. Бывает правда и односторонняя. Когда какая-нибудь уездная кумушка перебирает все косточки своих ближних, она, конечно, может быть правдива в своих суждениях и приговорах, но разве это та самая высшая, философско-художественная правда, которую мы встречаем в произведениях Гёте?
Затем, когда мы видим, что художник, вроде, например, Гоголя, изображает одни отрицательные явления жизни, мы не отрицаем в произведениях его правду, хотя бы и одностороннюю, если художник не спешит эти отрицательные явления возвести во всеобщий закон жизни и уверить нас, что в жизни ничего нет и быть не может, кроме выводимых им отрицательных явлений. Но если он вздумает нас убеждать, что вся жизнь исчерпывается теми мерзостями, какие он изображает, что под личиною всех чистых побуждений и высоких и чистых помыслов таится та же низменная житейская грязь, то – как бы он ни казался правдив – мы все-таки скажем, что в изображениях его нет правды, так как он клевещет на жизнь, дает ложное понятие о ней, представляя ее исключительно в одних черных красках.
И если мы, обратясь к самим произведениям Писемского, посмотрим, как практически осуществлял он свою теорию и какую давал нам правду, то мы должны будем сознаться, что это была правда злая, крайне пессимистического свойства, правда, обливающая вас ушатом холодной воды и вызывающая разочарование в людях; одним словом, такого свойства правда, какую подразумевают, когда желают охладить пыл влюбленного человека и говорят ему: хотите, я расскажу вам о вашей возлюбленной всю правду. И одним таким обещанием дают понять, что от этой правды возлюбленной не поздоровится.
Если такого рода прокурорски-обличительную правду сопоставите с требованием спокойного и беспристрастного объективизма, то на вас пахнёт сразу чем-то крайне вам знакомым, такими речами, которые раздавались так еще недавно. Ба, да ведь правда Писемского – это тот же беспристрастно-научный протоколизм Золя, и в произведениях Писемского перед вами воскресает во весь рост пресловутый французский натурализм со всеми его несимпатичными свойствами: то же отрицание какой бы то ни было тенденциозности или идеализма, тот же холодный разъедающий анализ, все явления человеческой жизни рассматривающий как следствия одних и тех же физиологически неизменных побуждений, и тот же пессимизм, не видящий в жизни ничего возвышающегося над этими побуждениями. Писемский, таким образом, лет на двадцать опередил Золя и совершенно самостоятельно разработал на Руси именно ту отрасль реализма, которая является на свет каждый раз, когда художники отказываются от проведения каких бы то ни было идей в своих произведениях и низводят искусство до бесцельного копания в тине житейской грязи. Единственно, чего недоставало Писемскому, чтобы вполне уподобиться французским натуралистам, – их страсти к мелкой детальности и чудовищному нагромождению внешних аксессуаров жизни. Но зато не уступал Писемский, особенно в позднейших своих произведениях, французским натуралистам в откровенном разоблачении альковных тайн.
ГЛАВА IV
Литературная деятельность Писемского с 1850 по 1854 год. – Переселение в Петербург. – Характеристика П.В. Анненковым Писемского как человека. – Мнительность Писемского. – Жизнь Писемского в Петербурге в пятидесятые годы. – Служба в департаменте уделов. – Нужда. – Отношения с издателями. – Командировка в Астрахань. – Переход в “Библиотеку для чтения” и принятие должности редактора этого журнала. – Роман “Тысяча душ”
Ободренный успехом двух первых своих произведений, напечатанных в “Москвитянине”, Писемский деятельно принялся за литературный труд и в период с 1850 по 1854 год успел поместить в различных журналах целый ряд повестей, комедий, романов, очерков из народного быта, а именно: “Комик”, “Ипохондрик”, “Богатый жених”, “Питерщик”, “M-r Батманов”, “Раздор”, “Леший”, “Фанфарон”. По словам Анненкова, Писемский давно уже имел намерение бросить службу, на которой состоял в Костроме, – асессором губернского правления. Успех его рассказов заставил его подумать о более широкой арене деятельности и о переселении в какую-либо из наших столиц. Все симпатии его были на стороне Москвы, где началась его литературная карьера и где он имел много друзей; но практический его ум подсказал ему, что в Москве приобретается почетное имя, но только в Петербурге завоевывается твердое общественное положение. Писемский завязал отношения с одним из редакторов “Современника”, И.И. Панаевым, и послал в этот журнал свой роман “Богатый жених” (1851). Представители только что возникшей и уже упрочившей свои позиции натуральной школы, при своем отрицательном отношении к русской жизни, тем охотнее приняли Писемского в свои ряды, чем безотраднее был пессимизм его произведений. Никому не приходило в то время и в голову, что пессимизм этот, при своей беспринципности, не щадит ни своих, ни чужих, и в высшей степени курьезный вид имело появление в журнале, стоявшем во главе передовой русской интеллигенции, повести “Богатый жених”, в которой эта самая интеллигенция в лице Шамилова смешивалась с грязью и в нравственном отношении выставлялась ниже уездных неучей-митрофанушек вроде дурачка Степушки. Но в то печальное время все литературные партии находились в хаотическом смешении, и каждая редакция охотно помещала на страницах своего издания произведение, блещущее сильным талантом, не вдумываясь глубоко, насколько оно сходится или расходится с духом и направлением журнала.
Что же касается самого Писемского, то как стремлению его в Петербург, так и появлению на страницах “Современника” много способствовало то обстоятельство, что он относился совершенно индифферентно ко всем боровшимся в то время литературным партиям и при всех своих московских литературных симпатиях так же был далек от славянофильских тенденций, как и от западнических. Вот что говорит по этому поводу Анненков в своих воспоминаниях о Писемском:
“Несмотря на духовное родство с народом, Писемский не был славянофилом. Он вывез только и сберег в Петербурге гордость своим происхождением, в нравственном смысле, от Москвы и затем чрезмерное хвастовство ею, что было ему обще со всеми москвичами. Москву же он любил совсем не за ее святыни, не за исторические воспоминания, с нею связанные, и громкое, всесветное имя, ею носимое, о чем никогда и не упоминал, а скорее за то, что там не принимали органических проявлений страсти и жизненной энергии за распутство, не обзывали преступлением всякое уклонение от полицейского порядка и что в городе, где по временам скоплялась целая многотысячная армия из одних мужиков и разночинцев со всех концов империи, труднее было следить за чистотой нравов по уставам благочиния. Петербург казался Писемскому созданным на то, чтобы показать, сколько может быть безжизненности в порядке и возмутительных явлений под покровом честности и стройности. Прочитав в записках Берхгольца о пирах в несколько суток без отдыха, даваемых основателем столицы, о курантах, заведенных им на башнях и в известные часы дня игравших на весь город свои мелодии, Писемский заметил: “Петру I это было совершенно необходимо для того, чтобы подданные его не померли все от скуки в новом городе”. Напрасно старались друзья Писемского растолковать ему значение Петербурга по-своему. Молча выслушивал он их размышления о том, что город этот предназначен исправлять народные увлечения, мешать развитию исключительного поклонения своему племени, что останавливает ход истории, проверять наукой и опытом смутные идеалы народных масс, и проч. и проч. Писемский отвечал большей частью на эти заметки шуточками вроде следующей: “Может быть и точно, – говорил он, – что Петербург – хороший педагог, но я всегда ненавидел своих педагогов, хотя и боялся их смертельно”.
С такими взглядами, основывавшимися более на непосредственном чувстве, чем на каких-либо рассудочных соображениях и теориях, переселился Писемский в 1853 году в Петербург и сразу поразил всех петербургских литераторов особенным, специфически провинциальным духом.
“Трудно себе и представить, – говорит Анненков в своих воспоминаниях, – более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербурге в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не припарадился моралью, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная со своего костромского акцента (“Кабинет Панаева поражает меня великолепием”, – говорит он после свиданья с щеголеватым редактором “Современника”) и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.
Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то диковинки посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе… Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непреложных догматов цивилизации. Так, учение, исповедуемое почти единогласно развитыми людьми всех оттенков Петербурга, о правах жены и женщины на полную свободу, в которой им отказывает еще современное общество, нашло в нем очень оригинального скептика. Помню изумление в кругу петербургских гуманистов, возбуждаемое его мнением, что женщина составляет только подробность в жизни мужчины и сама по себе, взятая единолично, не имеет значения, что обязанности мужа к жене исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее и что сердечные отношения между ними наступают только с появлением детей, а совсем не с появления так называемой любви, о которой так много говорят поэты и романисты. Но это мнение было только началом тех сюрпризов, которые Писемский готовил своим слушателям.
Писемский, например, добродушно признавался им, что испытывает род органического отвращения к иностранцам, которого победить в себе не может. “Присутствие иностранца, – говорил Писемский, – действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его”. Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких или подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей и прежнего боярства, и думных людей Московского царства. Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда открываешь зерна и крохи какой-то давней полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной, нравственной черты характера человека, которая за ним останется навсегда, и, наконец, слово, часто окрашенное ироническим оттенком, сблизило его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют “parfum de terre” (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге.
Вообще осторожность, с какой Писемский держался в стороне от теоретических и философских разговоров, когда они завязывались перед ним, показывала, что отвлеченные идеи не имели в нем ни своего ученика, ни своего поклонника. Это подтверждалось и фактически многими проявлениями его анализирующего ума. Писемский удерживал, например, легко заметки и мысли, способные мирно уживаться с насущным умственным содержанием русского человека, и тотчас забывал о тех из них, которые служили, так сказать, светочами для общечеловеческого развития. Вообще он никогда не мог усвоить себе хорошенько представления об этом общечеловеческом развитии – малопонятном, по его мнению, без указания на какой-либо народ, целиком воплотивший его в себе, без примеси национальных пороков и особенностей, если такой народ еще найдется на свете! [5] Сколько споров по одному этому вопросу происходило тогда! Людей сороковых годов, так много говоривших об общечеловеческом развитии, Писемский весьма уважал как двигателей общества, что и заявил во многих местах своих сочинений и даже в целом романе, но он был решительным противником их идеализма. Да и как бы он принял их учение о единой вселенской морали, обязательной для всех народов, достигших известной степени цивилизации, когда в противность их убеждениям он любил слабости, недостатки, даже дурные природные наклонности своего племени, носил следы их в самом себе и, понимая их вполне, нисколько не раскаивался в них и всего менее думал об их исправлении. Прежде всего, Писемский был нервным человеком в высшей степени и состоял под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу. В нем не сказывалось ни малейших признаков дисциплины над собой. Он допустил развиться в себе одной психической черте до болезненности, мы говорим о его нервной трусливости перед внешним миром. Он боялся толпы на улице, недоверчиво смотрел на всякое новое явление, вносимое в жизнь прикладными науками, и, например, по открытии железных дорог никогда не ездил на курьерских поездах, говоря, что они устроены для бешеных людей, не знающих, куда девать излишек животной своей жизни. Его тревожили известия и события, возникшие даже на очень дальних пунктах от места его пребывания, хотя он и не мог сказать сам, в чем состоит тут опасность для него”.
Сверх того, Анненков рассказывает, как он с непривычки был озадачен, когда однажды, вскоре после знакомства с Писемским, возвращаясь с ним довольно поздно с вечера, проведенного у друзей, услыхал от него необычайный вопрос: “Скажите, вам никогда не случалось думать, подъезжая к своему дому, что без вас там могло произойти большое несчастие?” При этом Писемский прибавил доверчиво: “Мне часто случается стоять у порога моей двери с замиранием сердца: что, если дом ограблен, кто-нибудь умер, пожар сделался, – ведь все может случиться!” Причем по голосу его слышно было, что он говорил серьезно.
О мнительности Писемского свидетельствуют и другие его современники. Так, вот что сообщает И.Ф. Горбунов о своем совместном с Писемским морском путешествии из Петербурга в Кронштадт летом 1855 года, в то самое время, когда перед Кронштадтом стоял неприятельский флот:
“Раз, в начале июня, я по обычаю пришел к Алексею Феофилактовичу и застал его встревоженным.
– Что с вами? – обратился я к нему.
– Как, братец, разве не знаешь? Посмотри.
И он указал мне на письмо от князя Д.А. Оболенского. Из него я узнал, что мы завтра в два часа должны с ним прибыть на казенный пароход, стоящий на Неве, который нас доставит на фрегат “Рюрик”, к великому князю Константину Николаевичу.
– Так что же? – сказал я.
– Как – что? По морю-то плыть, не по Волге!
– Да далеко ли тут?
– У тебя нервов нет? В шхерах-то там налетишь…
– Да какие там шхеры!..
Целый день он волновался, а вечером мы отправились на пароход, на котором мы должны плыть в Кронштадт, и нам любезно дозволили войти на него и осмотреть. Алексей Феофилактович успокоился.
– Это пароход серьезный, – утешал он себя, хотя пароход был очень маленький.
В назначенное время мы были на пристани и ровно в два часа отошли в Кронштадт. Через полчаса Алексей Феофилактович освоился с морем, бояться перестал, а интересовался только знать – виден ли будет неприятельский флот.
Вот показался Кронштадт… Все ближе… ближе… яснее… вот наши суда.
“Стоп машина”, – раздалась команда. Под пароходом забурлило. С фрегата “Рюрик” донеслись через рупор какие-то слова, отвалил катер и направился к нашему пароходу; взяв нас, пошел обратно к фрегату. На фрегате мы были представлены начальствующим лицам. Великий князь находился в каюте: у него был доклад.
– Не угодно ли вам осмотреть наш фрегат, – обратился командир, капитан Баженов.
Писемский молча повиновался и пошел, я последовал за ним. Нам показали орудия, ядра, картечи и наконец пригласили на марс, откуда простым глазом видны были мачты неприятельского флота, а посредством труб мы узнали, что неприятель сушит белье. Новость впечатлений была очень сильна. Писемский с уважением смотрел на пушки, но подходить к ним близко не решался и даже сделал мне замечание, когда я внимательно осматривал одно орудие.
– Отойди, – заметил он строго.
При входе в каюту мы были представлены молодому великому князю, который так милостиво и любезно встретил нас, что заставил позабыть всякое смущение.
– Я с удовольствием читал ваши сочинения, – сказал он Писемскому, – и очень рад, что услышу ваше чтение. Мне говорили, что вы мастерски читаете.
Потом обратился ко мне:
– А вы еще юноша…
– Только что начинает, – заметил Писемский нежным отеческим тоном.
Сели на палубе за длинный стол, подали чай, началось чтение. Писемский сначала зачитал робко, вяло, но скоро он овладел собой, и полились из уст его речи, сладчайшие меда. Его высочество неоднократно останавливал чтение и выражал автору свое удовольствие. Рассказ был уже близок к концу, вдруг… глухой пушечный выстрел! Писемский вздрогнул и побледнел; другой… третий… четвертый…
– Начали?! – произнес он простодушно, робко окинув всех глазами. Ему представилась бомбардировка.
– Это салют; к неприятелю идет пароход с моря, – успокоили его.
Пальба продолжалась, и Писемский не раньше ее окончания приступил к чтению, но начал читать двумя тонами ниже – так его поразила эта неожиданность. После чтения я рассказал весь бывший тогда у меня репертуар. Обласканные вниманием великого князя, в 11 часов вечера мы поплыли тем же порядком обратно. На пути нас встретил туман, и мы ощупью шли до Петербурга. Алексей Феофилактович всех истерзал. Ему представлялись подводные камни, мели, а в устье Невы померещились мины.
– Туман, братец, – говорил он мне, – наткнешься и полетишь. Однако Бог нас помиловал: мы пришли благополучно”.
В свою очередь некто г-н Н-в свидетельствует в своих воспоминаниях о Писемском, помещенных в “Стране” за 1881 год, что вдруг ему стало представляться, что те лица, от которых ему приходится брать деньги, будут непременно давать ему фальшивые бумажки, и мысль эта производила в нем сильное беспокойство, вследствие чего он зачастую отправлялся в казначейство с полученными деньгами и просил проверить, не фальшивые ли они.
Насколько мнительность Писемского резко отпечатлевалась на самой его физиономии, мы можем судить по нижеследующему письму его, писанному в 1880 году фотографу Шапиро по поводу изданной последним галереи портретов русских писателей, среди которых есть и портрет Писемского:
“Мой портрет носит те же недостатки, которые оказываются у меня во всех моих фотографических портретах и которые, конечно, зависят от моего неуменья сидеть. У меня на всех фотографиях выходят какие-то вылупленные, испуганные и как бы даже какие-то сумасшедшие глаза, может быть потому, что, в самом деле, когда меня сажают перед камер-обскурное стекло, то я чувствую если не страх, то сильное беспокойство”.
С приездом в Петербург в 1853 году жизнь Писемского естественно приняла совсем иной характер, чем в провинции. “До первых годов шестого десятилетия, – по свидетельству г. Боборыкина, – в течение пяти-шести лет Писемский пользовался самой большой популярностью. Он сделался достоянием Петербурга, жил бойко, редакторы журналов за ним ухаживали, его видали часто и в светских салонах, знали как чтеца и даже как актера-любителя”.
Но та затаенная цель, ради которой переселился Писемский в Петербург, – а именно обеспечить себя и создать прочное положение – оказывалась недостижимой, и Писемскому пришлось довольствоваться весьма малым, едва сводя концы с концами. “Тогдашняя жизнь Писемского в Петербурге, – по свидетельству Анненкова, – близко подходила к жизни литературного пролетария, который принужден беспрестанно считаться со своими средствами. Дом его содержался в большом порядке благодаря хозяйке; но выдающаяся простота его обстановки показывала, что экономия была тут не делом вкуса, а необходимости. Писемский переносил стеснения далеко не спокойно; он досадовал на свою бедность и искал средств выйти из нее, с чем, собственно, и явился в Петербург. На первых порах он даже определился на службу в один из петербургских департаментов (в Удел кажется), и любопытно, что позднее, когда покинул его (а случилось это очень скоро), Писемский указывал на одно чиновное лицо, покровительствовавшее ему, со словами: “Никогда не прощу этому человеку того, что я старался понравиться ему и выказать себя умницей”.
Тяжелое материальное положение было связано между прочим и с тем, что в литературной деятельности Писемского в это время наступила полоса малой производительности. Так, в продолжение всего 1854 года появились в печати лишь следующие два его произведения: “Фанфарон” в “Современнике” и “Ветеран и новобранец” в “Отечественных записках”. В 1855 году были напечатаны (кроме вышеозначенной критической статьи в “Отечественных записках”) также лишь две его вещи: “Плотничья артель” и “Виновата ли она?” Из всех этих произведений одна “Плотничья артель” отличалась ярким талантом, который проявился в мастерском изображении народного быта. Прочие работы ничего не прибавили к славе Писемского; “Ветеран…” же “… и новобранец” – драматический случай в одном действии – был и совсем плох. Заплативши дань патриотическому настроению общества, возбужденному ужасами севастопольской войны, Писемский вместе с тем обнаружил всю свою неспособность к драматическому одушевлению и потрясению нервов чувствительными эффектами.
Зарабатывая, таким образом, весьма мало литературным трудом и получая скудную плату за свои произведения при существовавших в то время низких расценках, Писемский, по словам Анненкова, выражал громко свое негодование на обстоятельства, которые вынуждают настоящего производителя ценностей быть зависимым от собирателя их и торговца ими. Не стесняясь, он в глаза говорил издателям журналов и сборников, что их благосостояние зиждется на эксплуатации и бедности их сотрудников и вкладчиков.
“Никто, – рассказывает Анненков, – не сердился на него за эти слова, во-первых, потому, что их произносил весьма нужный человек, и, во-вторых, потому, что в сущности это были безобидные слова, не способные изменить обычаев литературного рынка. Но и для Писемского наступил день, когда он почувствовал, что жизненная его работа не пропала задаром. В 1861 г. один из предпринимателей в Петербурге (Стелловский) купил у него право на издание всех его дотоле появившихся сочинений за 8 тысяч рублей – сумма немаловажная по тому времени. С этим обстоятельством, давшим Писемскому возможность почувствовать себя самостоятельным писателем, имеющим свою цену на литературной бирже, связывается еще довольно характерный анекдот, рассказанный самим героем его. После долгих и серьезных прений со своим издателем, согласившись на его условия и получив крупный задаток, Писемский вздумал тотчас же и попробовать себя в роли капиталиста. Он отправился в одно из пышных публичных заведений столицы, где богатые люди мотают свою жизнь и состояние и мимо которого он проходил, с любопытством посматривая на его двери. Теперь он шумно раскрыл их и, как власть имущий, гордо вступил в недоступные прежде чертоги, но, встретив там нечеловеческое подобострастие и звериную алчность к деньгам, тотчас же очнулся. Готовность служить всем его капризам отрезвила его лучше всякой проповеди и вместо поощрения к издержкам погнала его вон, к себе домой… Анекдот хорошо рисует соединение сильного практического смысла с детской наивностью и фантастическими порывами, которые составляли сущность характера этого человека”.
В 1856 году, как известно, морское министерство обратилось к нескольким пользовавшимся известностью литераторам с предложением отправиться за казенный счет на различные российские побережья, чтобы исследовать быт приморских краев в этнографическом и торговом отношениях. В числе таких избранников был и Писемский, посланный с этой целью морским министерством в Астрахань и на побережья Каспийского моря. Но из этой поездки Писемский вынес очень мало как для министерства, так и для самого себя, причиною чего была, конечно, крайне недостаточная научная подготовка для дела, требовавшего не одного беллетристического таланта, но и специальных познаний. Единственным результатом поездки Писемского были два небольших путевых очерка в “Морском сборнике”, непроходимо скучные и наполненные не столько личными наблюдениями, сколько длиннейшими выписками из разных сочинений, касающихся того края, в который он ездил. Так как поездка эта отняла у Писемского много времени, то в продолжение 1857 года появился лишь небольшой рассказ его в “Библиотеке для чтения” – “Старая барыня”. Впрочем, все это время, почти с самого приезда в Петербург, Писемский был занят писанием большого романа, представлявшего chef-d’oeuvre его литературной деятельности, “Тысяча душ”. В 1858 году Писемский оказался вдруг во главе толстого журнала, и, конечно, не что иное, как всё те же скудость средств и надежда на прочное положение заставили его взяться за дело, совершенно не подходящее ни к строю его ума, ни к темпераменту.
Мы уже видели, что, приехав в Петербург, Писемский прежде всего сошелся с редакцией “Современника”. Но редакция эта, со своими определенными тенденциями, оставалась всегда чужда Писемскому при его беспринципном скептицизме и миросозерцании, остававшемся на степени детских верований и предрассудков. По всей вероятности, и главные представители редакции “Современника” скоро его разглядели. Они оценили его крупный талант, с радостью готовы были поместить на своих страницах каждое его талантливое произведение, но в то же время не сближались с ним как с человеком. Единственным сотрудником “Современника”, с которым близко сошелся Писемский, был известный критик того времени A.B. Дружинин. Своим эклектизмом, чопорным англоманством и приверженностью к чистому искусству, доходившей даже до отрицания Белинского, Дружинин менее всего устраивал редакцию “Современника”, и его терпели в ней лишь на безрыбье. Писемский же, очевидно, потому именно и сблизился с Дружининым, что оба были по плечу друг другу отсутствием строго определенных и страстно проводимых принципов и тенденций. Сближало Писемского с Дружининым также и то обстоятельство, что последний, вследствие своей эклектической наклонности воздавать всему должное, отнюдь не питал той нетерпимой партийной вражды к московским друзьям Писемского, почвенникам, группировавшимся вокруг “Москвитянина”, какой были преисполнены прочие сотрудники “Современника”, готовые относиться отрицательно и к такому талантливому представителю московского кружка, как Островский. Дружинин завязал даже, от своего имени и не спросясь редакции, на страницах “Современника”, в “Письмах иногороднего подписчика”, дружеские сношения с почвенниками, почему и получил их симпатии и прозвище – “честный рыцарь”.
Когда же во главе редакции “Современника” стали новые, юные силы и журнал после Крымской войны все определеннее и резче начал отстаивать свои принципы, дальнейшее участие в нем Дружинина стало немыслимым и он перешел в “Библиотеку для чтения”, где сделался постоянным сотрудником и редактором и куда перенес свои “Письма иногороднего подписчика”. Вместе с ним отвернулся от “Современника” и Писемский. По крайней мере, мы видим, что свой большой роман “Тысяча душ” он запродал “Отечественным запискам”, где тот и был напечатан в течение 1858 года. В “Современнике” же это самое крупное и лучшее до того времени произведение Писемского не удостоилось мало-мальски обстоятельного отзыва, и лишь Добролюбов в своей статье о “Накануне” Тургенева небрежно заметил вскользь, что о новом романе Писемского он вовсе не говорил, потому что, по его мнению, “вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем толковать, кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что отношение его к этим фактам не просто и не правдиво”.
Возглавив “Библиотеку для чтения”, Дружинин не замедлил пригласить в соредакторы Писемского, с одной стороны, потому, что злейшая чахотка, подтачивая его силы, не позволяла ему единолично вести журнал, а с другой стороны, потому, что редакция “Библиотеки для чтения” – журнала, совершенно утратившего в глазах публики всякое значение и находившегося в крайнем упадке, – надеялась поднять журнал и привлечь к нему внимание, поставив во главе его столь почтенного человека, как Писемский. Таким образом, с 1858 года Писемский встал во главе “Библиотеки для чтения”, и редакторство его продолжалось четыре года, до 1862. Ниже мы расскажем о печальном финале этой деятельности Писемского. Теперь же приступим к характеристике его романа “Тысяча душ”.
Представляя собою лучшее произведение из всего написанного Писемским в продолжение всей его литературной деятельности, роман “Тысяча душ” является в то же время ярким выражением всех достоинств и недостатков творчества Писемского. Во всех предыдущих своих произведениях Писемский имел дело преимущественно с частной жизнью провинциального общества и не шел далее изображения различного рода семейных дрязг, вероломных любовных измен, своекорыстных расчетов, уездных сплетен и т. п. Здесь же раскрывается перед вами широкая картина общественной жизни провинции, рисующейся самыми мрачными красками, с акцентом на всем том возмутительном безобразии, какое было свойственно этой расшатанной во всех своих основах жизни в то время. История вице-губернаторсгва и губернаторства главного героя романа Калиновича со всеми ее подробностями и аксессуарами ничем не уступает “Губернским очеркам” Щедрина и имеет совершенно такое же гражданское значение. Этой картиной Писемский сторицей заплатил дань своему веку, выложив в своем романе весь тот горький опыт, какой вынес он из своей многолетней службы в провинции.
Но одной историей служебной деятельности Калиновича не исчерпывается роман Писемского. Если же мы возьмем его во всем его целом, то, напротив, он поразит нас тем, что, платя этим романом дань своему веку, в то же время ни в одном из предыдущих произведений Писемский не расходился так со своим веком, как именно в этом самом романе. Время появления романа было эпохой всеобщего оживления, розовых надежд, горячего энтузиазма, который охватил все слои общества. Все жаждали обновления, широких и решительных реформ и готовы были принести все свои силы и саму жизнь на алтарь отечества. И вдруг именно в такое время Писемский в своем романе проявляет еще больший пессимизм, чем когда-либо прежде. Естественно, что если в предыдущих произведениях пессимизм Писемского никому не казался странным и неуместным, так как вполне гармонировал с мрачным колоритом жизни, то теперь он явно шел вразрез с настроением общества. Судите сами, каким диссонансом звучали нижеследующие строки романа, в которых Писемский с полной, небывалой еще прежде откровенностью высказал свою мрачную философию жизни. Как раз в такое время, когда возникали новые альтруистические идеалы и являлись на сцену суровые ригористы, видевшие преступление в малейших заботах о своей личности, Писемский писал:
“Надобно сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение. И для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения? Автор дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава… любовь… мировые идеи… бессмертие – ничто пред комфортом. Все это в душах наших случайное; один только он стоит впереди нашего пути, со своей неизмеримо притягательной силой. К нему-то мы направляем все наши усилия. Он один наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое, хотя бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать главную его артерию и кровью изойти, но только близенько, на подножии нашего золотого тельца! Для комфорта проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. Для комфорта десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью!.. Для комфорта кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях!.. Для комфорта чистым и нечистым путем ищут наследства; для комфорта берут взятки и совершают, наконец, преступления!”
С первого взгляда может показаться, что эта тирада исполнена иронии и сарказма, но мы имеем полное основание предполагать, что автор высказал здесь свое “твердое убеждение”, как он сам выражается, без всякой задней мысли. Надо заметить, что как ни стремился Писемский во всех своих произведениях к объективности, это был писатель, обладавший значительной дозой субъективности. Субъективность его, конечно, не простиралась до такой степени, как, например, у Байрона или у Лермонтова, которые постоянно имели дело со своей личностью. Тем не менее в каждом произведении Писемского вы найдете отражение того, что переживал сам автор во время его создания. Мы видели, что некоторые его романы и повести заключают даже в себе несомненный автобиографический материал, на что указывает в своей автобиографии сам Писемский. Но и самые, казалось бы, объективные произведения, как, например, роман “Тысяча душ”, не чужды того же автобиографического элемента. Так, нам известно, что, подобно Калиновичу, не довольствуясь первыми своими литературными успехами, Писемский приехал в Петербург не для чего иного, как именно ради приобретения того самого комфорта, силу которого он называет “неизмеримо притягательной”. По приезде в Петербург Калиновичем овладевает “тоска и какой-то безотчетный страх” – чувства, как мы видели, в большой степени свойственные ипохондрическому характеру Писемского. Далее, совершенно как автор, Калинович колеблется между службой и литературой, причем Писемский не преминул в своем романе изобразить то глубокое разочарование, какое вынес он из ближайшего знакомства с организацией литературного труда в Петербурге. Мы видели уже из воспоминаний Анненкова, как сетовал и негодовал Писемский на эксплуатацию литературных тружеников издателями периодических органов. Совершенно согласно с такими чувствами Писемский изображает редактора толстого журнала, в котором была напечатана первая повесть Калиновича, в виде “растолстевшего сангвиника с закинутою назад головою, совершенно без шеи, и только маленькие, беспрестанно бегавшие из-под золотых очков глаза говорили о его коммерческих способностях”. И между тем как этот утопающий в роскоши сибарит кидает десятки тысяч на француженок и в то же время обсчитывает Калиновича на 90 рублей при выдаче ему гонорара, настоящим редактором, на плечах которого лежит весь журнал, оказывается некто Зыков, литературный труженик вроде Белинского. Едва сводя концы с концами, он живет в пятом этаже и, сгорая от непосильной работы, находится в последнем градусе чахотки. Несмотря на всю свою страстную любовь к литературе, он в то же время не только не поощряет Калиновича отдаться ей, а, напротив, патетически восклицает: “Чорт с ней, с этой литературой! Она только губит людей. Вот оно, чего я достиг с ней: пусто тут, каверны. Вот у меня теперь сынишка, и предсмертное мое заклятье его матери: пусть он будет солдатом, барабанщиком, целовальником, квартальным, но не писателем, не писателем!..”
Разница между Писемским и его героем заключалась лишь в том, что Писемский успел разочароваться в служебной деятельности раньше еще, чем в литературной, и для него не было уже возврата, тогда как Калиновича ждало еще впереди разочарование в административном поприще.
В этом отношении Калинович представляется как нельзя более современным типом. В то время, когда появился роман, то есть в конце пятидесятых годов, героями дня были именно администраторы-громовержцы, являвшиеся в провинцию с печатью высшего образования на челе и с неукротимым стремлением карать зло и истреблять плевелы в виде мелких взяточников и всякого рода попустителей. Такого рода герои прославлялись в то время и на страницах журналов, и на сценах театров, изображаясь в безусловно идеальном блеске, как такой безукоризненный образец гражданской доблести, выше которого трудно себе что-либо и представить.
Как истый скептик и пессимист Писемский облил ледяной водой это поклонение величественным карателям мелких воришек. Многие были недовольны типом Калиновича в том отношении, что он несет в себе какую-то странную двойственность. С одной стороны, перед вами черствый и бездушный карьерист, которому ничего не стоит обольстить девушку, а сделавшись ее женихом, бросить ее и жениться на кривобокой наследнице тысячи душ исключительно ради устройства комфортабельной жизни и карьеры; затем без всякой жалости посадить в тюрьму того самого князя, который помог ему жениться; наконец, выдвинуться, наконец, избить свою супругу, которой он обязан всем. И, тем не менее, тот же самый Калинович производит на читателей впечатление человека во всяком случае выше всех головою, и они до самой последней страницы чувствуют к нему не отвращение, какое должны внушать его поступки, а напротив, если не сочувствие и участие, то жалость.
Но в том именно и заключается глубокая ирония романа, что Писемский вывел в лице Калиновича вовсе не одного из тех мелких и заурядных бессердечных карьеристов, какие встречаются в жизни на каждом шагу. Это не Хазаров и не Бахтиаров, у которых в сердце не осталось ни одной искры Божией. Калинович и на самом деле выше всех окружающих, человек не только с высшим образованием, но и с душою. Недешево обходилась ему каждая сделка с совестью, причиняя такие мучительные страдания, как будто от него отрывали куски живого мяса. Автор, без сомнения, хотел показать своим Калиновичем, что нет никакой возможности подняться на административные высоты беднякам вроде самого Писемского, какого бы они ни были ума, без тяжких и постыдных пожертвований лучшими человеческими инстинктами. Но и поднявшись на самые завидные высоты, герои вроде Калиновича далеко не успокаивают мучения своей совести и не вознаграждают себя за все пожертвования сознанием полезности своей деятельности. Оказывается, что для того, чтобы удержаться на высоте, необходимо продолжать вступать в еще большие компромиссы со средою и в конце концов приходится свести свою деятельность исключительно к снисканию благ земных и смотреть сквозь пальцы на все совершающиеся вокруг мерзости. Калинович же вообразил, что достигнутая им власть губернатора дает ему возможность вполне свободно осуществлять свои гражданские идеалы, хотя бы лишь отрицательно, являясь Юпитером-громовержцем для всей той неправды, какою были проникнуты общественные дела и отношения вверенного ему края. Но своей террористической деятельностью он возбудил лишь всеобщий ужас, озлобление, и его поспешили убрать как человека беспокойного, который и сам не пользуется благами жизни и другим жить мешает. Трудно и представить себе более глубокую и правдивую иронию, нежели та, которой проникнута вся эта история, – иронию не только над честолюбцами вроде Калиновича, но и над всем русским обществом того времени.
Тот же горький пессимизм, какой пронизывает общественную сторону романа, проникает и все частные отношения героев. Так, например, какой идеальной личностью должна была бы казаться Настенька с ее глубокой и неизменной привязанностью к Калиновичу, несмотря на все возмутительно бессердечное отношение его к ней. Читатель должен был бы отдыхать душою на этой единственной светлой личности романа. Но и ее не преминул Писемский облить ядом своего скептицизма. Во-первых, Писемский остался применительно и к этой своей героине верен своему прежнему взгляду на женщин, что даже самые лучшие из них ни на что более не способны, как только питать рабскую кошачью привязанность к избраннику своего сердца и беспрекословно довольствоваться ролью одной из прихотей комфорта в жизни мужчины. И действительно, Настенька ни к чему более не стремится, как лишь к исполнению столь скромного женского предназначения. Но и на это скромное предназначение Писемский не замедлил сделать плевок в виде особенного свойственного ему иронического взгляда на любовь вообще, как мужскую, так и женскую. Сначала такой иронический взгляд высказывается относительно мужской любви.
Изображая, как Калинович на пути в Петербург ухаживал за сидевшей с ним в одном вагоне кокоткой, Писемский замечает при этом:
“Здесь мне опять приходится объяснить истину, совершенно не принимаемую в романах, – истину, что никогда мы, грубая половина рода человеческого, не способны так изменить любимой нами женщине, как в первое время разлуки с нею, хоть и любишь ее еще с прежнею страстью. Дело тут в том, что воспоминания любви еще слишком живы, чувства жаждут привычных наслаждений, а между тем около нас пусто и нет милого существа, заменить которое мы готовы, обманывая» себя, первым хорошеньким личиком”.
Но далее оказывается, что не только грубая, но и нежная половина человеческого рода обладает тем же свойством. По крайней мере тотчас же после измены Калиновича брошенная им Настенька была готова отдаться принявшему в ней участие Белавину, и вот что говорила она в свое оправдание:
“Послушай: если когда-нибудь тебя женщина уверяла или станет уверять, что вот она любила там мужа или любовника, что ли… он потом умер или изменил ей, а она все-таки продолжала любить его до гроба, поверь ты мне, что она или ничего еще в жизни не испытала, или лжет. Все мы имеем не ту способность, чтобы вот любить одно существо, а просто способны любить или нет. У одной это чувство больше развито, у другой меньше, а у третьей и ничего нет… Как я глубоко и сильно была привязана к тебе, в этом я кидаю перчатку всем в мире женщинам! Но в то же время, когда была брошена тобой и когда около меня остался другой человек, который, казалось, принимает во мне такое участие, что дай Бог отцу с матерью… я видела это и невольно привязалась к нему”.
В конце романа Писемский сочетал, как известно, Калиновича и Настеньку законным браком, но его в то же время взяло беспокойство, как бы читатели не подумали, что он, по примеру прочих романистов, соединил два неизменно и нежно любящих сердца лишь ради вожделенной развязки, и он спешит оговориться:
“Через полгода после смерти жены Калиновича, Полины, Калинович женился на Настеньке. Факт этот, казалось бы, развязывает мне как романисту все нити, но в то же время я никак не могу, подобно старым повествователям, сказать, что главные герои мои после долговременных треволнений пристали наконец в мирную пристань тихого семейного счастья. Далеко это было не так на самом деле! Сломанный нравственно, больной физически, Калинович решился на новый брак единственно потому только, что ни на что более не надеялся и ничего уже более не ожидал от жизни, да и Настенька, актриса в душе, оставила театр и сделалась действительной статской советницей скорее из сознания какого-то долга, что она одна осталась в мире для этого человека и обязана хоть сколько-нибудь поддержать и усладить жизнь этой разбитой, но все-таки любезной для нее силы…”
ГЛАВА V
Рассказы из народного быта и комедия “Горькая судьбина”. – Причины непонимания Писемским движения шестидесятых годов и его реакционные взгляды. – Полемика с “Искрой”. – Роман “Взбаламученное море”
Вслед за романом “Тысяча душ” последовало другое произведение, которое ставится обыкновенно во главе всего написанного Писемским, – знаменитая комедия его “Горькая судьбина”. Но прежде чем приступим к характеристике этой комедии, считаем необходимым сказать несколько слов обо всех вообще произведениях Писемского из народного быта, каковыми являются “Плотничья артель”, “Питерщик”, “Леший” и “Батька”.
Произведениями этими Писемский заплатил дань своему веку. Редкий писатель того времени обходился без рассказов и очерков, если не обширных романов, из быта крестьян, мещан или купцов. Но Писемский и в этих рассказах своих сумел остаться вполне самим собою, тем же скептиком-пессимистом, индифферентным к каким бы то ни было тенденциям, господствовавшим в его время. Он был совершенно чужд как идеализации народа, так и сентиментальных сожалений о его печальной участи, которые составляли в литературе того времени заурядное явление. Он и на освобождение крестьян смотрел скептически, утверждая, по словам Анненкова, публично в 1861 году, что “новое выработанное положение о крестьянах предстанет перед нами не в виде нравственного дела по преимуществу, а в виде фискального решения первой инстанции суда по давней имущественной тяжбе их с помещиками. Тягаться можно будет и после того, в других инстанциях”.
“Писемскому казалось, – говорит далее Анненков, – что без сильных “нравственных авторитетов” народ не расстанется ни с одним из тех свойств, которые получил в период рабства и чиновничьих притеснений, а только приноровится к новым учреждениям и в их рамках разовьет еще с большей энергией дурное нравственное наследство, полученное им от прошлого. Он не придавал особенного значения и будущему развитию благосостояния освобожденных, на которое многие рассчитывали как на сильный нравственный двигатель: жизненный опыт привел его к заключению, что богатство и нажива могут быть родоначальниками еще больших пороков и безобразий, чем сама скудость, которая считается их матерью”.
Вот какой общий взгляд на народ перед освобождением проводит Писемский в своем романе “Взбаламученное море”:
“Простой народ стал приходить наконец в отупение: с него брали и в казну, и барину, и чиновникам, да его же чуть не ежегодно в солдаты отдавали. Как бы в отместку за все это он неистово пил отравленную откупную водку и, приходя оттого в скотское бешенство, дрался, как зверь, или со своим братом, или с женой и беспрестанно попадал за то на каторгу”.
Исходя из этого, вы можете судить, как далек был Писемский от малейшей идеализации народа, от представления мужиков идеальными и невинными страдальцами. И действительно, в его рассказах, обнаруживающих большое знание народной жизни и мужицкого говора, вы не встретите и тени каких-либо протестов против угнетенного положения крестьян. Содержание этих рассказов составляют различные драматические эпизоды из жизни крестьян, причем Писемский своим бесстрастно объективным протоколизмом очень напоминает Золя в его романе “La terre”. Крестьяне Писемского, подобно крестьянам романа Золя, являются дикарями, живущими непосредственной жизнью животных влечений, причем, как у всех дикарей, самые высокие душевные движения соединяются в них со скотским зверством и часто одно незаметно переходит в другое.
То же самое видим мы и в “Горькой судьбине” Писемского. Прежде всего изложим со слов Анненкова историю этой комедии. Основа ее не была выдумана художником. Писемский столкнулся с изображенным в ней происшествием в 1848 году, будучи еще чиновником особых поручений при костромском губернаторе. Он держал в руках подлинное дело точно такого же содержания и в качестве следователя, командированного губернатором, сам принимал участие в его разборе. Комедия писалась им летом на даче, близ Петербурга, и случилось, что однажды автор ее встретился на прогулке с актером Мартыновым. Он зазвал его к себе в дом и прочел ему первые три действия комедии, тогда написанные. Знаменитый артист пришел в восторг от них и изумил Писемского, выразив намерение взять роль мужа, когда пьеса поступит на сцену. Тогда еще никто не мог угадать в Мартынове драматического призвания, и Писемский выразил свое сомнение; но великий комик настоятельно требовал предоставления ему роли Анания. Кажется, этого не случилось, и Мартынову суждено было посредством других и менее значительных ролей продемонстрировать присутствие в себе того патетического элемента, которым обладает всякий истинный комик. В заключение Мартынов спросил: “А как ты намерен окончить пьесу?” Писемский отвечал: “По моему плану Ананий должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра”. “Вот, это не хорошо, – возразил Мартынов, – ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить”. Писемский был поражен верностью этой мысли и буквально последовал ей. Так хорошо угадал знаменитый артист сущность пьесы, прозрел законный, необходимый исход ее чутьем истины, присущим всякому подлинному таланту.
На первый взгляд может показаться, что в комедии “Горькая судьбина” народ в лице Анания с его цельной, непосредственной натурой и непоколебимо твердыми взглядами на жизнь и на людей чрезмерно превознесен по сравнению с барами, представителем которых является помещик Чехлов, полюбивший жену Анания, Лизавету. Но эта иллюзия происходит лишь оттого, что помещик выведен в комедии в слишком уж безобразном виде. Писемский и здесь не мог обойтись без своей обычной иронии. Перед вами не заурядный патриархальный крепостник-бабник, невозбранно пользующийся деревенскими красотками силою своей помещичьей власти. Чехлов – человек высшего образования, гнушающийся крепостного права и отрицающий его. Он не насильничает Лизавету, а воображает, что разыгрывает с нею роман в духе Жорж Санд, пылая к ней романтической страстью. Он и не замечает при этом, что при всех своих гуманностях он остается все тем же крепостником-насильником и его “свободная любовь” является “свободной любовью” волка к овечке. Верх же нравственного безобразия раскрывается перед нами в конце драмы, когда Чехлов, продолжая донкихотствовать в духе своих рыцарских идеалов, высказывает сожаление, что русские нравы и порядки мешают ему вызвать Анания на дуэль. Эта крайняя изломанность и отрешенность от жизни одного из последних могикан крепостного права производит и в настоящее время ошеломляющее впечатление. В эпоху же появления “Горькой судьбины” в печати и на сцене, в момент освобождения крестьян, впечатление это было еще в большей степени потрясающее. При взгляде на Чехлова глубоко чувствовалось, что час крепостного права пробил и дальнейшее существование его действительно немыслимо.
Понятно, что по сравнению с таким киселеобразным ничтожеством, каким представляется Чехлов, Ананий может показаться богатырем и в физическом, и в нравственном отношениях. Но вглядитесь вы в этого самого Анания помимо всяких сравнений, и вы увидите, что вся его высокая нравственность – нравственность деревенского кулака, готового превратиться со временем в самодура в духе Кита Китыча.
Женясь на Лизавете, он нарочно берет бесприданницу, чтобы она ему была по гроб предана из благодарности, а о любви ее к нему и не допытывается на том основании, что и “все мужики женятся не по особливому какому расположению, а все-таки, коли в церкви Божьей повенчаны, значит, надо жить по закону”. По приезде из Питера он степенно и резонно рассказывает обо всех виденных им в столице диковинках. Вы обнаруживаете в нем человека бывалого и словно тронутого несколько цивилизацией. А между тем в нем сидит зверь, и стоило ему услышать о том, что жена изменила ему и прижила с барином ребенка, зверь этот проснулся, и, обратившись в необузданного дикаря, Ананий первым делом избил жену до полусмерти. Затем он успокоился; с одной стороны, человеческие чувства, а с другой – практические соображения взяли в нем перевес. Он сообразил, что в крестьянском быту под барской властью такие случаи нередки и не могут быть причиной семейного позора, и был готов не только простить жену, но и признать своим ребенка ее. “По крайней мере, – говорит он, – для чужих глаз сделать надо, что ничего как бы этого не было; ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная”.
Когда же Ананий узнает, что жена не поневоле сошлась с барином, а по любви и готова даже бежать к нему от мужа, в нем опять просыпается зверь и дикарь; он бросается к жене и убивает ее ребенка в порыве необузданной ярости, а потом снова приходит в себя, является на место преступления и отдается властям.
Из этого всего вы можете видеть, в какой степени и в “Горькой судьбине” Писемский оставался верен своему взгляду на простой народ как на отупевших и озверевших дикарей, которые, “приходя в скотское бешенство, дрались, как звери, или со своим братом, или с женой и беспрестанно попадали за то на каторгу”.
Удостоенная Академией Уваровской премии и поставленная на сцене Александрийского театра в 1863 году, комедия Писемского впоследствии сделалась одною из тех классических пьес драматического репертуара, которые никогда не сходят со сцены и главные роли в которых доставляют первоклассным актерам возможность проявить все свои силы и всю высоту своих талантов.
Конец пятидесятых годов был, таким образом, апогеем развития таланта Писемского, а равно и его литературной славы. Стоя в одном ряду с первоклассными писателями своего времени: Тургеневым, Гончаровым, Достоевским и пр., будучи редактором толстого журнала, считаясь в то время одним из лучших драматургов, он срывал лавры и в качестве прекрасного чтеца, блистая на литературных чтениях и имея доступ в лучшие великосветские салоны того времени.
Но, вознеся столь высоко, как только мог желать славолюбивый писатель, судьба с такой же быстротой низвергла его с этой высоты, устлала дальнейший путь его массой шипов и терний, из стоявшего впереди века светила обратила его в поборника мрака и застоя и, вооружив против него всю прогрессивную литературу, поставила имя его в один ряд с самыми позорными именами.
Произошло это вследствие того, что, привыкши плыть в неподвижных и сонных водах того общественного затишья, какое предшествовало Крымской войне, Писемский был пловцом, совершенно не приготовленным для борьбы с тем шумным водоворотом, какой закружил все русское общество в эпоху освобождения крестьян. Если писатели вроде Тургенева, философски образованные в западных университетах, не могли вполне ясно и правильно осмыслить весь хаос тех до пестроты разнообразных и противоречивых явлений, какими исполнилась русская земля, то как было не потеряться в этом хаосе Писемскому, учившемуся чему-нибудь и как-нибудь и давно забывшему все университетские веяния. Мы уже видели, как поражали всех, с кем сталкивался Писемский еще в начале пятидесятых годов в Петербурге, его допотопные взгляды, напоминающие, по словам Анненкова, “строй мыслей прошлого боярства и думных людей Московского царства”. Можно себе вообразить, какими дикими должны были представляться эти самые архаические взгляды в конце пятидесятых годов, когда все русское общество от малого до старого прониклось ожесточенным протестом именно против всего напоминавшего допетровский, домостроевский строй мыслей. Уже потому Писемский должен был разойтись с новым движением, что, в то время как все мало-мальски вовлеченные в это движение считали себя идеальными людьми в силу одного исповедования новых идей, он по своему неисправимому пессимизму продолжал с обычной откровенной резкостью утверждать, что все люди, каких бы они ни были убеждений, в равной степени подлецы, – и что же ему делать, когда он ни в чьей душе ничего хорошего не видит? Его коробило и возмущало не только то, что массы крупных воров и мелких воришек, хлыщей, шулеров и кокоток сделались прогрессистами и взапуски пустились либеральничать, но и такие непривычные мелочи, что гимназисты осмеливались грубить родителям и безнаказанно курить на улице, а мужиков начали “выкать”. К этому присоединились литературные отношения. Разойдясь с редакцией “Современника” и перейдя в “Библиотеку для чтения”, тем самым Писемский стал в оппозицию к прогрессивному лагерю тогдашней литературы. Мы видели уже, как холодно начали отзываться о нем в “Современнике”. Обновленная “Библиотека для чтения” по инициативе Дружинина написала на своем знамени “искусство” и начала ратовать против новых отрицателей его. Под влиянием своих журнальных сочленов проникся и Писемский негодованием против мальчишек, непочтительно относившихся к Пушкину и считавших сапоги выше Шекспира. Но на первых порах оппозиция эта, по-видимому, имела довольно умеренный характер. По крайней мере, по свидетельству П.Д. Боборыкина, “у себя дома, в кабинете, в задушевных разговорах, Писемский высказывался скорее в тоне сокрушения и протеста, чем в тоне непримиримой запальчивости. По-своему он был последователен. Люди, возвещающие радикальные принципы, должны были в его глазах быть безукоризненными во всех смыслах, а этого далеко не было. Его наблюдательный и сатирический ум одинаково разоблачал людей противного лагеря и своих ближайших сверстников. Он мог и про приятеля, про человека симпатичного ему по таланту, говорить без всякой поблажки его личным слабостям. Тогдашний руководитель “Современника”, возмущавший его своими новыми идеями, был ему очень мало известен как человек. Но несколько раз он расспрашивал сотрудника, ходившего и в “Современник”: “Какой это человек, хороший ли, действительно ли верит он сам в то, что говорит?”
Судя по этой выдержке из воспоминаний П.Д. Боборыкина, протесты Писемского ограничивались долгое время интимно-кабинетным характером. Но, обостряясь более и более, они наконец прорвались наружу и выплыли на свет Божий при помощи печатного слова. В это время во всех журналах, по примеру “Свистка” и “Современника”, вошло в моду помещать в конце книжек сатирические фельетоны, с одной стороны, ради оживления журнала, а с другой – в полемических целях. Завела свой “балаганчик” и “Библиотека для чтения”. Между прочими фельетонистами выступил в своем журнале и Писемский, в конце 1861 года, под псевдонимом Никиты Безрылова, и первый фельетон его, напечатанный в декабрьской книжке, послужил яблоком раздора, возбудив во всей литературе порядочный переполох.
В фельетоне этом, довольно бессодержательном в целом, поразили всех три места.
Так, обращаясь по случаю праздников и елок к невинному и юному человечеству, Писемский говорит:
“Милые дети!.. Вы живете в счастливое для вашего возраста время: слышали ли вы, что в воскресных школах разным замарашкам мальчикам и девочкам, по правилам великого педагога и сердцеведа Павлова, говорят “вы”? Что за дело, что эти глупые созданьица вовсе не понимают этой вежливости и даже она их больше пугает и что они гораздо лучше учатся у какого-то крикуна-помещика и полковых унтер-офицеров, чем у самых современных молодых; все эти маленькие противоречия ничего не значат; был бы соблюден закон высокой гуманности. Собственно о вас и говорить нечего: вам, конечно, очень хорошо известно, что вас совершенно уже не будут сечь и если какой-нибудь варвар-родитель, а еще возможнее этого – варварка-родительница вздумает, по своим грубым привычкам, вас посечь, вы можете прибегнуть к благодетельному средству гласности и напечатать о них…”
Далее затем Никита Безрылов обращается к тем же детям с такими словами:
“Та же высокая гуманность, окрестившая всех черномазых мальчишек в “вы” и избавившая вас навсегда от розог, заботится также и о ваших маменьках. У вас, например, Костя Пигасов, папенька строг? – “Строг!” – А у вас, m-lle Marie, тоже? – “Тоже строг”. – И у вас, Петя Жуков? – “О, нет! у меня маман папу иногда целует, а иногда и по щекам бьет”. – Прекрасно: к вашему возрасту, т. е. когда вы сделаетесь мужьями, вы все должны будете походить на папеньку Жукова и, по учению эмансипации, вам предстоят еще некоторые другие подробности, которые вы теперь детским вашим умом и не поймете еще: у вашей супруги будут тогда, во-первых, вы – муж, во-вторых, любимый ею любовник, в-третьих, любовник, который ее любит. В отношении Петербурга в этом праве, вероятно, воспоследуют весьма маленькие изменения: в лице любящего любовника всегда должен быть начальник ее мужа, а в особе любимого любовника – молодой подчиненный, какой-нибудь коллежский секретарь или поручик, более крепкий телом, чем духом”.
Наконец, почти в заключение фельетона он обращается не к детям уже, а ко всем своим читателям:
“Говорят, в видах освобождения петербургских собак от намордников, будет дан литературный вечер с такого рода объявлением, что “вот-де мы, литераторы, глубоко сознавая до какой степени наши произведения, наши физиономии, наши голоса даже надоели почтеннейшей публике и не желая уже в настоящем случае более испытывать ее великодушного терпения, предложили заявить ей свои новые, не совсем, может быть, ей известные качества. Программа нового литературного вечера будет такова: господа Майков и Дружинин, по своему геркулесовскому телосложению, будут представлять забавы великанов, т. е. кидать трехпудовыми шарами, подымать двенадцатипудовые палицы, останавливать за одно колесо четверку лошадей. Господа Писемский и Аскоченский в самой задушевной между собой беседе будут первоначально предаваться около четверти часа размышлениям, а потом соленым судаком станут подкреплять свои бренные тела, причем по преимуществу г-н Писемский будет с истинным восторгом запивать эту скудную пищу чистой невской водой, кидая взоры презрения на стоящие невдалеке от него ростбиф, устрицы, портер и портвейн. Г-н Панаев, с полнейшим спокойствием джентльмена, будет в присутствии всей публики считать свои, собственно ему принадлежащие, 500 тысяч серебром, а г-н Некрасов, по своей столь глубоко переживаемой любви к бедным и несчастным, будет с наслаждением играть с выгнанным кадетом в свои козыри – и даром. Г-н Гончаров, окруженный племянниками и внучатами, будет первым раздавать деньги, а вторых держать и баловать у себя на коленях, кормить их манной кашей, причем она будет падать ему на брюки, и все это он будет принимать с величайшим наслаждением. С г-на Гербеля будут рисовать портрет Виктора Эммануила. Г-н Никитенко будет читать речь о простоте слога. Г-н Краевский будет своим мелодическим голосом петь романс собственного своего сочинения:
О, сколь душою нежнойЯ человечество люблю. Газета “День”, не желая иметь с петербургскими литераторами ничего общего и в то же время стремясь, в укор северным славянам, представить южного славянина и патриота, намерена переделать повесть Тургенева “Накануне” в драму и поставить ее на сцену, причем роль Инсарова будет исполнять г-н Пандуров, мужчина далеко не без приятностей для женского пола”.
Вот на этот фельетон Никиты Безрылова и ополчилась прогрессивная печать в лице редакции “Искры”, которая в пятом номере своей газеты за 1862 год поместила грозную филиппику против Никиты Безрылова.
“Общество поморных, – читаем мы в хронике прогресса в вышеозначенном номере “Искры”, – находится в невыразимом огорчении. Никогда еще русское печатное слово не было низводимо до такого позора, до такого поругания, до какого низвела его “Библиотека для чтения”” в декабрьском фельетоне своем прошедшего года. Рука в первый раз являющегося в русской литературе художника, какого-то Никиты Безрылова, на пяти страницах фельетона умела поместить столько грязи, пошлости, тупоумия, что картина в целом вышла вполне отвратительная. Если присовокупить к этому ту бесцеремонную наглость, с которой новый художник насмехается и ругается над всем, что современное общество вырабатывает в себе лучшего в настоящее время, то картина в своем роде составляет верх совершенства. Гнусное ли самолюбие, руководящее пером Никиты Безрылова, тупоумное ли невежество – то и другое требует в настоящем случае беспощадного бичевания.
Мы думаем, что самый жалкий паяц, вынужденный добывать себе насущное пропитание бессмысленным кривляньем перед толпой и шутовской критикой над всем, над чем ни попало, без разбора, лишь бы только возбудить смех толпы, стоящей перед его подмостками, – постыдится смеяться над некоторыми предметами, дорогими во все времена и для всех людей без исключения. Постыдится потому, что и самая невежественная толпа не будет слушать насмешек над подобными предметами иначе как с омерзением; потому, что и сам паяц, как бы он ни был пошл, какими-нибудь корнями да прикрепляется к общественной жизни. Если у него не осталось ни одного чисто человеческого чувства, то осталось, по крайней мере, животное чувство привязанности к своей семье, к отцу, матери, брату, сестре. Во имя одной этой привязанности, с потерею которой, при отсутствии всех других чувств, было бы вовсе немыслимо никакое существо человеческое, даже существо паяца, он не насмехается над людьми, которые употребляют свои верования, время, труды на устройство судьбы бедняков, подобных ему; которые хлопочут изо всех сил, чтобы воспитать в обществе всеобщее уважение к человеческому достоинству, к человеческой личности, независимо от ее сословного и общественного положения, независимо от ее богатства, бедности, пола, возраста, вообще внешних условий, случайных или мнимых преимуществ; которые, наконец, хотят дать возможность всем людям честно трудиться и жить, открыв всем пути образования и общественной деятельности, уничтожив отсталый взгляд на женщину, существующий во многих классах нашего общества, – взгляд, в силу которого женщина признается каким-то получеловеком, неспособным ни к умственному образованию, ни к самостоятельной деятельности в обществе, семействе, назначенным самой природой быть не более как самкой, служить прихотям мужчины, зависеть от него во всем, одним словом, быть в обществе каким-то жалким паразитом.
Над всеми подобными трудами наших лучших людей в пользу меньших братии, над всеми благородными усилиями лучшего современного общества пересоздать себя, поставить свою жизнь на новых, человеческих, разумных началах насмехается новый фельетонист “Библиотеки для чтения”, Никита Безрылов, да еще как самоуверенно насмехается-то! Такого гнусного, такого позорного для человеческого смысла смеха нам не случалось слыхать никогда! Мы понимаем очень хорошо, что человек, наделенный ограниченным умом от природы, закосневший в постоянной лени и беспутстве, может дойти до полного отупения к движению всякой новой мысли, может не понимать самых простых новых начал и воззрений, выработанных путем теории, и по невежеству своему может насмехаться над ними пошло, глупо и вместе с тем, само собою разумеется, все-таки вредно для общественного развития; но мы не можем понять, каким образом даже самый ограниченный человек может дойти до такого отупения, чтобы не только не признавать, но еще позволить себе насмехаться над истинами, для уразумения которых не требуется никаких усилий мысли, в несомненности которых убеждает каждого его собственное сердце и хотя какое-нибудь уважение к самому себе. Если здесь действительно одно только тупоумие, то это тупоумие беспримерное, далее которого идти положительно невозможно. И новый русский писатель Никита Безрылов по одному этому, если даже не предполагать в нем никакой гнусности, явление в высшей степени замечательное и редкое! Принадлежит ли он, Никита Безрылов, к числу рожденных или как-нибудь случайно попал в человеческое общество? Есть ли в нем человеческое сердце? Шевелилась ли в нем когда-нибудь человеческая мысль, волновало ли его когда-нибудь и какое-нибудь человеческое чувство? Покраснел ли он хоть раз, когда писал свой фельетон, или даже такая капитальная глупость могла пройти через его душу, не возбудив в нем отвращения к самому себе? Все эти вопросы в высшей степени интересуют нас, но еще более, чем личность Никиты Безрылова, интересует нас личность редактора “Библиотеки для чтения”, г-на Писемского. Кто Безрылов? Личность темная, никому не известная, являющаяся в литературе в первый раз, личность, не имеющая никакого значения. Напечатай Никита Безрылов свой фельетон отдельной брошюрой, брошюрки этой никто не знал бы. Но устами Никиты Безрылова говорит целая редакция журнала, во главе которой стоит г-н Писемский.
Писемский! Кто не помнит, сколько когда-то надежд сосредоточивала русская публика на этом имени? С каким сочувствием приветствовала она каждое новое его произведение? С каким доверчивым упорством многие доселе надеются услышать от г-на Писемского новое слово, в полном убеждении, что г-н Писемский всею душою предан интересам современного движения русского общества, что его сердце наболело и изныло при виде тех бесчисленных препятствий, какие новые идеи встречают при своем появлении в русском обществе!
А г-н Писемский между тем прехладнокровно, устами такого мудрого мужа, как Никита Безрылов, изрекает анафемы, которым позавидовал бы даже Виктор Ипатьич Аскоченский”.
Делая затем приведенные нами выше выписки из фельетона Никиты Безрылова, фельетонист “Искры” в заключение своей статьи восклицает:
“Долго мы не хотели верить, чтобы это произведение Никиты Безрылова явилось в “Библиотеке для чтения” с ведома г-на Писемского. Мы полагали, что г-н Писемский не читал его до напечатания (что хотя странно для редактора, но тем не менее иногда возможно, не только по невниманию редактора к своему делу, но и по множеству занятий) и по прочтении не преминет печатно извиниться перед публикой в своем недосмотре и объяснит причины появления такой дикой нелепости в его журнале. Ничего подобного, однако ж, не случилось. Прошло более месяца со времени выхода в свет декабрьской книжки “Библиотеки для чтения”, а г-н Писемский все молчит. Не может быть более никакого сомнения в том, что г-н Писемский разделяет воззрение Никиты Безрылова. Позволим же и мы себе высказать откровенно и бесцеремонно наше мнение по этому делу.
В 1835 году русская читающая публика с восторгом встретила исторический роман «Ледяной дом» — новое произведение уже известного ей писателя Ивана Ивановича Лажечникова. Интерес к отечественной и мировой истории в то время был огромен: одно за другим выходили в свет многотомные сочинения русских и иностранных авторов. На книжные полки легли «История Государства Российского» Н. М. Карамзина, «История русского народа» Н. А. Полевого, труды Гизо и Тьери. В журналах не угасали бурные споры на исторические темы.
События прошлого
стали прочным достоянием художественной литературы: исторические сюжеты составили основу дум и поэм Рылеева, национальный колорит и нравы древности воскресил Катенин, таинственностью романтического повествования увлекал Бестужев-Марлинский, горячо обсуждались произведения Н. Полевого, М. Погодина и многих других. Большой популярностью пользовались романы Вальтера Скотта — ими зачитывались, их изучали, открывая новые способы художественного освещения старины. Углубляясь в историю, русские писатели осваивали принцип историзма. Высший этап исторического мышления был достигнут в те годы Пушкиным в поэме «Полтава», трагедии «Борис Годунов»; неоконченном романе «Арап Петра Великого», а впоследствии в «Медном Всаднике» и «Капитанской дочке».
Изображение истории в нашей литературе носило далеко не бесстрастный, академический характер. Уроки истории служили лучшему пониманию современности. После разгрома восстания декабристов передовые люди были встревожены судьбами страны и задумывались над той целью, какая предназначена России на перекрестках мировой истории. В прошлом искали истоки национального характера, причины неудач революционных выступлений и решение острых, жизненно важных, злободневных политических проблем. Краски исторические сливались с красками политическими. В кругу исторических произведений 1830-х годов, обладавших серьезным общественным и художественным содержанием, роман «Ледяной дом» занимает почетное место.
Его автор, Иван Иванович Лажечников, родился 14 сентября 1792 года в семье богатого коломенского купца, дом которого «славился роскошью своего убранства», гостеприимством и хлебосольством. Семейный быт Лажечниковых ничем не напоминал замкнутое и заскорузлое домашнее существование, типичное для тогдашнего купечества. Отец Лажечникова вел знакомство с выдающимся просветителем Н. И. Новиковым, был начитанным и культурным человеком. Своему сыну он дал писатель, таили опасность политических иллюзий и легко могли быть сопоставлены с николаевской современностью.
События в романе воспроизводят заключительный этап борьбы Волынского с Бироном, результатом которой оказался несправедливый приговор, вынесенный императрицей Анной Иоанновной видному государственному деятелю, возвышенному сначала Петром I, а потом и ею. Правда, невиновность Артемия Петровича Волынского была признана Екатериной II, что и открыло Лажечникову, как и другим писателям, в частности Рылееву, возможность художественного освещения этого неприятного для самодержавия факта. Однако «ошибку» Анны можно было трактовать как единичный и нетипичный случай, хотя и досадный, но не колеблющий самый принцип самодержавной властщ Многие историки так и поступали, перелагая всю ответственность на Бирона. Между тем уже Пушкин проницательно заметил, что дело не столько в Бироне, сколько в Анне Иоанновне и, следовательно, самодержавной власти вообще.
В романе «Ледяной дом» невиновность Волынского очевидна с самого начала. И это еще более усугубляет произвол императрицы, которая обрекает на смерть верного слугу. Сюжет романа прямо связан с критикой тирании и деспотизма. Писатель подвергает сомнению непогрешимость царствующей особы, что само по себе было весьма опасно. Несмотря на то что Лажечников пытался всячески оправдать Анну, нарисовал ее лично слабой, болезненной, вечно неяомогающей женщиной, окруженной шутами и дураками, неспособной заниматься государственными делами, из его повествования вырастает не только этот образ императрицы. Поступки и все поведение Анны контрастны декларациям писателя и раскрывают ее как капризную, гневливую, своенравную, самовластную и трусливую самодержицу. Анна издевается над своими подданными, унижет их человеческое достоинство, раздавая оплеухи направо и налево, забавляется шутовскими свадьбами, вроде той уродливой потехи, ради которой Волынский по ее повелению выстроил ледяной дом. Характерно, например, что Волынский, отражая авторскую точку зрения, верит в мудрую справедливость Анны. Он считает: достаточно поведать императрице о бесчинствах Бирона, и «русской партии» будет обеспечена победа. Но, рассказав царице о кознях ее любимца, он все-таки не спасает ни себя, ни своих единомышленников. Таким образом, историческое сознание романиста еще не поднялось до открытого осуждения Анны Иоанновны и в ее лице принципа самодержавной власти. Но как честный художник Лажечников в самой ткани своего произведения раскрыл отвратительные стороны ее правления и ее характера. И хотя писателю не удалось обнажить причинную связь между свойствами Анны-женщины и Анны-государыни, облик императрицы далек от идеализации. Как бы ни хотел Лажечников объяснить преступное беззаконие личными качествами Анны Иоанновны и злодейскими намерениями Бирона, повествование убеждает в том, что именно самодержавие повинно в оговоре и бессмысленной казни Волынского. Тем самым бироновщина воспринимается крайним выражением антинародной политики русского самодержавия.
Если, однако, Лажечников двойствен в изображении Анны — и это ослабило историзм романа,- то обрисовка Бирона и бироновщины как чужеродной силы принадлежит к самым совершенным страницам «Ледяного дома». Удача писателя обусловлена тем, что он вскрыл язвы фаворитизма, раболепия, обнажил бесстыдную торговлю государственными интересами России, жажду личной наживы и разъедаемую корыстью нравственность придворного общества. Современники отлично понимали, что бироновщина — отнюдь не временное и случайное явление. В их памяти еще не изгладилась эпоха Александра I с ее чудовищной аракчеевщиной.
Острота сюжета определялась и противопоставлением бездарным выходцам из немецких земель «русской партии». Волынский защищает национальную политику, он русский не только по рождению, вероисповеданию, привычкам, нравам, языку, но и — главным образом — по смыслу государственной деятельности. Он продолжает политику Петра I, заботясь о благе и величии России. Между тем при дворе Николая I высшие государственные должности, как и при Анне Иоанновне, занимали Нессельроде, Бенкендорфы и пр. Их процветание оплачивалось разорением и бесправием русского народа, жестоким подавлением свободной мысли, циническим равнодушием к правам человека. Повсеместный сыск, шпионаж, «невинные забавы», распространенные при Анне, вошли в моду и в царствование Николая I. Устройство всевозможных «чайных» и «кофейных» домиков, беседок могло ассоциироваться со строительством ледяного дома, а Третье отделение мало в чем уступало зловещей Тайной канцелярии. Перекличка с домашним и придворным бытом Николая была слишком разительна, чтобы ее можно было не заметить. Многие сцены романа напоминали о том безмолвии, в которое погрузилось русское общество после расправы над декабристами. В романе людей охватывает ужас при виде «молодцев» Бирона. Жители в страхе спешат спрятаться, и улицы вмиг становятся пустынными, будто вымершими.
К безусловным достоинствам романа относится и сопряженность разных бытовых укладов. Высшая знать изображена и на торжественных приемах, и в домашнем окружении. Писатель стремился к тому, чтобы Анна, Бирон, Волынский предстали лицами официальными и частными. С этой целью Лажечников тщательно изучал исторические материалы. Русская история в то время была исследована неравномерно. Многие документы, касавшиеся царствования Анны Иоанновны, еще не обнародовал ись и хранились под спудом, а доступ к ним оказался для писателя закрыт. Тем значительнее заслуга Лажечникова, сумевшего опереться на небольшое число свидетельств и благодаря этому проникнуть в психологию людей, почувствовать общий климат эпохи и в целом правдиво передать жизнь различных общественных слоев XVIII века.
Противником Бирона, продававшего Россию Англии, выступил в романе Волынский, благородный человек, государственный муж, русский патриот, глава «русской партии». В обрисовке Волынского писатель пытался соединить противоречивые грани его облика. С одной стороны, Лажечников намеренно идеализировал Волынского как государственного деятеля, продолжая традицию, намеченную Рылеевым (дума «Волынский») , а с другой — хотел показать его частным человеком, подверженным страстям. Важнейшая черта Волынского — любовь ко всему русскому. Основываясь только на национальной принадлежности героя, Лажечников оставляет в тени социальные позиции Волынского. Такая неотчетливость художественного зрения самого писателя неизбежно привела к неясности социально-психологической характеристики Волынского в романе. Писателя занимал не исторически достоверный портрет героя, а психологический тип, сочетавший в себе государственный разум гражданина и личную страсть. Интимные чувства героя мешают его гражданской патриотической деятельности, но разум его не властен над ними. Однако Волынский не в силах предать забвению и государственные интересы, отдавшись внезапно вспыхнувшей любви к Мариорице Леле-мико. Он бьется в этих противоречиях. К чести Лажечникова, несколько механистический конфликт внутри героя — гражданина-патриота и страстной натуры — не разрешается грубо-прямолинейным превосходством разума над страстью или страсти над разумом. Для Лажечникова вполне законны и общественные добродетели Волынского, и его любовь. Чувство Волынского к Мариорице исполнено подлинной поэзии. Однако писатель подчеркивает, что для данной личности и в данных обстоятельствах свойственная Волынскому противоречивость оказалась гибельной.
В соответствии с таким замыслом Лажечников придал Волынскому идеально-исключительные черты — честность, прямоту, отвагу, гражданскую доблесть, смелость суждений, благородство. Но в таком описании героя писатель отступил от исторической правды: реальный Волынский нисколько не напоминал идеального гражданина. Это был типичный царедворец, ве®>можа, не брезговавший лестью, уличенный в служебных проступках и даже нечистый на руку. Известно, например, что однажды он познакомился со знаменитой дубинкой Петра I. Не стеснялся он и рукопашного самоуправства (истязание мичмана князя Мещерского, избиение поэта Тредиаковского, образ которого, кстати, в романе значительно искажен).
Два лика Волынского — непорочный государственный деятель и страстный человек — непосредственно связаны с сюжетом и построением романа. Борьба Волынского с Бироном осложнена тем, что Волынский, уже будучи женатым, влюбляется в прекрасную Мариорицу Ле-лемико, чей нежный и трогательно-поэтический портрет искусно выписан Лажечниковым. Вынужденный скрывать свою страсть, Волынский не может ни сдержать ее, ни избавиться от нее. Это вносит некоторый разлад в его кружок, но государственные интересы берут верх над личными чувствами: родственник жены прощает герою увлечение, полагая «преступную» любовь Волынсй)го слабостью великого человека. Гораздо трагичнее для героя то, что его «незаконной» любовью ловко воспользовался Бирон. Не гнушаясь подлыми средствами в политической битве и зная о привязанности Анны Иоанновны к Мариорице, он вовлек ничего не подозревающую молдаванскую княжну в свою интригу против Волынского.
Тем самым в романе — то параллельно, то пересекаясь — идут две линии: общественная и любовная. Порою они вовсе не спаяны и независимы друг от друга. Этот недостаток объясняется неотчетливостью ^торического облика Волынского и некоторой рассудочностью художественного мышления писателя. В традициях ХУШ века он резко поделил героев на отрицательных («злодеев») и положительных, а в соответствии с веяниями романтизма мелодраматизировал действие. «Злодеи» у него, как заметил Белинский, изображены непременно с рыжими волосами.
Они не скрывают ни своего необыкновенного коварства, ни неистовой злобы. Положительные персонажи окружены атмосферой таинственности (Мариорица, ее мать и др.)- Вместе с тем писатель исторически верно запечатлел и лукавого Остермана, и осторожного Миниха. Лажечников остался в рамках действительной истории и не подчинил ее вымыслу. Он поставил любовную, романическую интригу в зависимость от исторических событий. Трагическая судьба Волынского и его возлюбленной определяется в конечном итоге политической схваткой героя с Бироном, приведшей Волынского на плаху, а Мариорицу — к тяжелому потрясению и смерти.
Несмотря на то что роман Лажечникова не свободен от идеализации главного действующего лица, от мелодраматизма, несмотря на присущую писателю ограниченность исторического мышления, в «Ледяном доме» реалистически верно изображены нравы эпохи, ужасы бироновщины, выразительны картины бытового уклада. Эта реалистическая струя властно пробивается в романе и составляет сильную его сторону. Художественную правдивость «Ледяного дома» сразу же признала критика. «Романы Лажечникова,- писал Белинский,- были фактами эстетического и нравственного образования русского общества и навсегда останутся достойны почетного упоминания в истории русской литературы». Другой великий современник Лажечникова — Пушкин, живо заинтересованный в развитии русской исторической прозы, в письме к Лажечникову выразил твердую уверенность, что «многие страницы» его романа «Ледяной дом» «будут жить, доколе не забудется русский язык».
В. И. Коровин
История еврейского народа — история становления и развития народа евреев. Она охватывает почти четыре тысячи лет и сотни других различных народов, их религию и культуру, с которыми на протяжении всей своей истории взаимодействовал еврейский народ. Существенная часть еврейской истории связана с территорией, которая в настоящее время называется государством Израиль.
Согласно Библии и еврейской традиции в целом, евреи ведут своё происхождение от библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, которые жили в земле Ханаан с XVIII века до нашей эры. Во время римского периода евреи были рассеяны и распространились по всему миру в так называемой диаспоре. После геноцида евреев, во время Второй мировой войны, было создано государство Израиль.
Особенности еврейской истории[править | править код]
По мнению большинства учёных, время этногенеза (формирования) еврейского народа приходится на период между 2-м и 1-м тысячелетиями до н. э. Факт существования на данной территории иной цивилизации не оспаривается, тем самым «удревняя» историю евреев. Гораздо большей задачей для многих историков является поиск материальных подтверждений, описанных в истории Храмов[1].
Еврейское самосознание является сочетанием этнического и религиозного элементов.
Историческая память в коллективном еврейском сознании[править | править код]
Коллективная память еврейского народа выражена в письменных источниках начиная с древности. Это Танах, Талмуд, агадическая литература, мистические, философские и галахические произведения Средних веков, еврейская литература Нового времени. Эта национальная память поддерживается еврейским образом жизни, освежается годичным циклом еврейских праздников, и побуждает каждое новое поколение пережить сопричастность с народным прошлым.
Как сказано в Пасхальной Хаггаде: «В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта, ибо сказано: «И скажи сыну твоему в тот день так — это ради того, что сделал со мною Господь при исходе моём из Египта» (Исх. 13:8). Не только наших предков вызволил Святой, благословен Он, но и нас спас вместе с ними, как сказано: «И нас Он вывел оттуда, чтобы повести нас и даровать нам землю, о которой Он клялся нашим предкам» (Втор. 6:23)»
Евреи, как и многие другие народы, взывают к ушедшим поколениям, но вместе с тем они чувствуют нравственную связь с ними, как если бы праотцы и сегодня были живы. Это свойство еврейской традиции иллюстрируют следующие слова Талмуда: «Рабби Зейра, завершив молитву, говорил так: „Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш, чтобы не согрешили мы, и не опозорились, и не заставили стыдиться праотцев наших“» (Брахот 16б).
Географическое своеобразие еврейской истории[править | править код]
На заре еврейской истории события были привязаны к сравнительно небольшому району Ближнего Востока и концентрировались вокруг Земли Израиля. Начиная с талмудического периода и далее в раннее Средневековье большая часть еврейского народа проживала в странах ислама. В поздние Средние века и в Новое время центральные события еврейской истории перемещаются в Европу. С течением времени распространение и развитие еврейских общин диаспоры приводит к тому, что ареной событий еврейской истории становятся Северная Африка, Западная и Восточная Европа, Северная Америка. С возникновением еврейского «национального очага», а затем Государства Израиль, Земля Израиля вновь начинает играть центральную роль в еврейской истории.
Географическое своеобразие еврейской истории имело формирующее влияние на культуру евреев. Возникнув на перекрёстке древних цивилизаций в Палестине, еврейская культура развивалась в постоянном контакте с окружающими народами и в своей стране, и в изгнании. Евреи оказали значительное влияние на развитие христианской и мусульманской цивилизаций, но и сами они не были изолированы от внешних влияний. Составляя чётко определённое меньшинство в среде других народов, евреи всегда вели плодотворный диалог — открытый или подспудный — с другими культурами, стремясь выявить и укрепить основы своей идентичности в рамках этого диалога.
Древнейшая (библейская) история (XX—XI века до н. э.)[править | править код]
Начало еврейской истории связано с библейской эпохой. Библейская история еврейского народа охватывает период от появления евреев на арене истории во времена Авраама, как родоначальника еврейского народа, до завоевания Иудеи Александром Македонским.
Основным источником для изучения древнейшей истории еврейского народа служит Ветхий Завет (Танах). Важным источником являются также сочинения Иосифа Флавия («Иудейские древности» и «Иудейская война»), Филона Александрийского и др.
В качестве нации древние евреи сложились во 2-м тысячелетии до н. э. на территории древнего Ханаана. Географически «национальный очаг» еврейского народа возник на «перекрёстке» Древнего мира — там, где встречаются пути, соединяющие Месопотамию и Египет, Малую Азию и Аравию и Африку.
Еврейские племена, потомки Авраама, расставшегося в древности со своей родиной в плодородной Месопотамии, постепенно захватили земли ханаанских народов и стали называть Ханаан Землёй Израиля. По одной из версий, это произошло в результате интеграции семитоязычных скотоводов-кочевников среднего течения Евфрата и земледельцев оазисов Ханаана. Согласно еврейской традиции, записанной в Торе, еврейский народ сформировался в результате Исхода из Египта и принятия Закона Торы у горы Синай. Пришедшие в Ханаан евреи были разделены на Двенадцать колен — племён, ведущих своё происхождение от сыновей Иакова-Израиля.
Эпоха патриархов, родоначальников еврейского народа[править | править код]
Согласно Библии, родоначальник еврейского народа Авраам (через Евера происходивший по прямой линии от Сима, сына Ноя) был выходцем из города Ур в Месопотамии (юг современного Ирака, на западе от реки Евфрат). Как можно судить по археологическим данным, представляемым новейшими раскопками и исследованиями, Халдея находилась уже на значительной высоте культурного развития, так что и Авраам, повинуясь высшему призванию, переселился в Ханаан уже как человек, обладавший всеми важнейшими элементами культурной жизни, и представлял собой весьма зажиточного и влиятельного главу целого племени.
В Ханаане Авраам встретил значительное население, также уже стоявшее на значительной ступени культурного развития, хотя в некоторых городах и проявлявшее все признаки глубокого нравственного растления (Содом и Гоморра). Через Ханаан проходили древнейшие торговые пути, связывавшие два полюса самых древних письменных цивилизаций — Месопотамию и Египет.
В Ханаане был заключён Завет между Богом и Авраамом, договор, которым определялась дальнейшая судьба потомков Авраама. Через некоторое время Аврааму пришлось побывать и на берегах Нила, где уже процветала окончательно сложившаяся египетская цивилизация, с её грандиозными пирамидами, многочисленными храмами и обелисками и всевозможными проявлениями своеобразной культуры мудрейшего народа древнего Востока.
Еврейские патриархи — Авраам, Исаак и Иаков вели образ жизни скромных кочевников, поэтому[источник не указан 4205 дней] их имена не упоминаются ни в клинописных табличках вавилонских архивов, ни на каменных стелах египетских фараонов. В то же время, Библия (Танах) сохранила живую память «в лицах» о древних вавилонянах, египтянах и многих других народах на многие тысячелетия.
Древнему Египту было суждено сделаться впоследствии колыбелью еврейского народа, когда внук Авраама Иаков переселился туда со всем домом своим.
По-видимому, авраамов период соответствует группе кочевых племён хапиру[2], часто упоминавшихся в документах различных государств Ближнего Востока (Аккад, Угарит, Митанни, Древний Египет) в период примерно XVIII—XV веков до н. э.
Переселение в Египет и египетское рабство (XIX—XV века до н. э.)[править | править код]
Согласно Книге Бытия, евреи переселились в Египет вслед за Иосифом, сделавшимся первым министром египетского фараона и фактическим правителем Египта, оставив фараону только высшие символы власти. Иосиф помог своему отцу Иакову со всей семьёй (67 человек) переселиться в Египет и поселиться в земле Гесем (Гошен) (Быт. 47).
Переселение евреев в Египет произошло в то время, когда там правила династия гиксосов[источник не указан 2563 дня], или «царей-пастухов» (с XVII века до н. э.), которая принадлежала чужеземной народности, захватившей престол фараонов. Точно неизвестно, откуда явились завоеватели и к какому племени они принадлежали; но можно думать, что это были кочевники, обитавшие в сирийских степях и постоянно тревожившие Египет своими набегами, так что он должен был защитить себя особой каменной стеной, тянувшейся почти через весь Суэцкий перешеек. Воспользовавшись слабостью правительства, кочевники завоевали Египет, и первое время их владычества ознаменовалось всевозможными проявлениями дикого варварства[источник не указан 2563 дня], которое, однако, скоро подчинилось египетской цивилизации, так что через несколько поколений двор гиксоских царей ничем не отличался от двора туземных фараонов. Иосиф, возможно, правил при одном из представителей этой династии, а именно, фараоне Апопи I[источник не указан 2563 дня]. С целью упрочения своего положения гиксосы покровительствовали инородцам и раздавали им лучшие земли, чтобы найти в них верных союзников в случае нужды. Такой политикой можно объяснить и то, что Апопи I отдал вновь прибывшим поселенцам — евреям один из богатейших округов страны.
Поселённое на богатой почве, окружённое всеми влияниями высокоразвитой культуры, используя выгодное положение племени (родство к первому министру и благодетелю страны), еврейское население стало быстро расти. Между тем в жизни Египта совершилась важная перемена. Из Фив вышло освободительное движение, которое ниспровергло гиксосскую династию, и гиксосы были изгнаны из Египта (ок. 1550 до н. э.).
Для евреев этот политический переворот имел роковое значение. На престоле фараонов воцарилась новая, туземная XVII династия. Под влиянием продолжительной и упорной борьбы с гиксосами в ней выработался дотоле неизвестный в Египте дух воинственности и завоевательности, а вместе с тем развилась и крайняя политическая подозрительность ко всему неегипетскому и особенно — пастушескому[источник не указан 2563 дня]. Ввиду этого вполне естественно, что новая династия не только не имела склонности сохранить прежние привилегии и вольности еврейских переселенцев, а напротив, вследствие их известной связи с гиксосами начала относиться к ним подозрительно и враждебно. Так как они уже успели значительно возрасти в числе и представляли собой немаловажную политическую силу, то по отношению к ним началась система угнетения, которая становилась все сильнее с каждым новым царствованием. Начались труднейшие крепостные пограничные работы, и на них употреблён был даровой труд евреев. Фараоны как бы старались превзойти друг друга своей военной славой и грандиозными постройками и дворцами, которыми украшались их резиденции; но чем знаменитее был фараон, чем блистательнее было его царствование, тем больше стонал народ под тяжестью непосильных работ. Партиями отвозили изнурённых рабочих в каменоломни, заставляли высекать огромные глыбы гранита и с невероятными усилиями тащить их к месту построек; заставляли рыть и проводить новые каналы, делать кирпичи и месить глину и известь для возводимых построек, поднимать воду из Нила в канавы для орошения полей, под палочными ударами жестоких надзирателей, как это ясно изображает Пятикнижие: «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой» (Исх. 1:13, 14).
Согласно религиозной традиции, египетское рабство продолжалось 210 лет.
Исход из Египта и скитания по пустыне (XV век до н. э.)[править | править код]
Основная статья: Исход
Согласно Библии, условия жизни израильтян в годы, предшествующие Исходу, становятся невыносимыми. Когда фараон увидел, что принятые им меры не в состоянии задержать роста молодого народа, им было издано жестокое повеление, сначала тайно, а потом и открыто, убивать родившихся мальчиков из племени израильтян. И к народным стонам под тяжестью изнурительных работ присоединились стоны и вопли матерей, но среди этих стонов и воплей израильского народа родился его великий избавитель Моисей.
Моисей, чудом спасённый от деспотизма фараона, был воспитан при дворе фараона и в качестве усыновлённого сына дочери фараона (Хатасу[источник не указан 2563 дня], самостоятельно правившей страной в качестве регентши и опекунши своего младшего брата, впоследствии знаменитого фараона-воителя Тотмеса III) был посвящён египетскими жрецами во «всю мудрость египетскую» (Деян. 7:22) и таким образом получил блистательную подготовку для своего будущего предназначения. Высокоодарённый от природы[источник не указан 2563 дня], он не затерялся в суете придворного блеска и не забыл своего происхождения от угнетаемого народа. Он не порвал и связи с ним, а напротив того, из роскошных палат дворца фараона ему было ещё больнее смотреть на то унижение и рабство, в котором находился его народ, и явственнее слышался стон его собратьев. При виде бедствий своего народа Моисею делался противным блеск раззолоченных дворцов, и он уходил в убогую хижину своих родителей, чтобы утешить бурю своего возмущённого духа. Он «лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр. 11:25) и потому даже «отказался называться сыном дочери фараоновой» (Евр. 11:24).
Среди своих соплеменников Моисей вблизи увидел их страдания и однажды в порыве негодования убил египетского надсмотрщика, который жестоко наказывал раба-израильтянина. Моисей зарыл египтянина в песке, стараясь скрыть следы своего невольного человекоубийства, однако молва об этом успела распространиться, и ему грозила смертная казнь. Вследствие этого он вынужден был бежать из Египта на гористый, малодоступный Синайский полуостров, в Мидьян, где он в течение 40 лет вёл тихую пастушескую жизнь.
Когда наступило время, Моисей получил от Бога великое призвание вернуться в Египет, чтобы вывести оттуда свой народ из плена рабства и привести их к служению открывшемуся ему Богу. Вернувшись в Египет уже в качестве посланника и пророка Божия, Моисей именем Бога потребовал от фараона отпустить его народ, демонстрируя чудеса, призванные убедить фараона и его приближённых в божественности его предназначения. Эти чудеса получили название десяти казней египетских из-за того, что каждое продемонстрированное Моисеем чудо сопровождалось страшными бедствиями для египтян. После продолжительной и настойчивой борьбы, Моисей вывел народ из Египта. Всего через неделю после Исхода армия фараона настигла евреев у Чермного, или Красного, моря, где совершается ещё одно чудо: воды моря расступились перед израильтянами и сомкнулись над войском фараона.
Странствуя по пустыне вслед за огненным столпом, израильтяне, спустя семь недель после Исхода подошли к горе Синай. У подошвы этой горы (отождествляемой большинством исследователей с горой Сас-Сафсафех, а другими с Сербалом) при грозных явлениях природы заключён был окончательный Завет (договор), между Богом и евреями как избранным народом, предназначенным отныне быть носителем истинной религии и нравственности для распространения их впоследствии на всё человечество. Основу Завета составили знаменитые Десять заповедей (Десятисловие), высеченные Моисеем на двух Скрижалях Завета после сорокодневного уединения на горе Синай. Эти заповеди выражают основные начала религии и нравственности и доныне составляют основу всякого законодательства. Там же произошла религиозная и общественная организация народа: была сооружена Скиния (походный Храм), по воле Всевышнего колено Левия (левиты) было выделено для её обслуживания, а из самого колена были выделены коэны — потомки Аарона, брата Моисея, для священнослужения.
После годичной стоянки у священной горы, народ, насчитывавший более 600 000 человек, способных носить оружие (что для всего народа составит более 2 000 000 душ), двинулся в дальнейший путь к Земле Обетованной, то есть к Ханаану.
Несмотря на то, что цель странствий — земля Ханаан, была установлена ещё при выходе из Египта, народ проводит в пути 40 лет в наказание за то, что он возроптал на Бога, усомнившись в успехе исхода, когда посланные в Ханаан 12 разведчиков, испугавшись местного населения, не рекомендовали евреям туда входить. Путь израильтян по пустыне сопровождался как трудностями и бедствиями, так и божественными чудесами: дарованием манны небесной, появлением воды из скалы и многими другими. Движение было медленным, лишь через 40 лет странствования уже новое поколение подошло к границам Ханаана к северу от Мёртвого моря, где сделало последнюю остановку на берегу Иордана. Там с вершины горы Нево Моисей окинул взглядом страну своих надежд и, сделав нужные распоряжения и назначив своим преемником Иисуса Навина, скончался, так и не вступив в Землю Обетованную.
Завоевание Ханаана (начало XIV века до н. э.)[править | править код]
Согласно библейским преданиям, став во главе народа, Иисус Навин с необычайной энергией повёл наступательную войну и, пользуясь раздробленностью местных ханаанских князей, за короткое время разбил их одного за другим, при этом подвергая всё население поголовному истреблению, находившему себе оправдание, кроме того, и в той ужасной степени религиозно-нравственного развращения, на которой находились ханаанские народы и при которой они становились решительно опасными для религии и нравственности избранного народа. Завоевание исполнено было в семь лет, и завоёванная земля разделена была между двенадцатью племенами, на которые разделялся народ (по числу своих двенадцати родоначальников, сыновей Иакова), с выделением из них тринадцатого колена Левиты на священное служение.
Эпоха Судей (XIV—XI веков до н. э.)[править | править код]
После смерти Иисуса Навина народ остался без определённого политического вождя и фактически распался на двенадцать самостоятельных республик, объединением для которых служило лишь единство религии и закона и сознание своего братства по крови. Это разделение естественно ослабило народ политически, а вместе с тем и нравственно, так что он стал быстро подчиняться влиянию оставшегося не истреблённым ханаанского населения и увлекаться безнравственными формами его идолопоклонства, состоявшего в обожествлении производительных сил природы (культ Ваала и Астарты). Этим пользовались как туземные, так и окружающие народы и, мстя евреям за их прежние победы, подчиняли их себе и подвергали жестоким угнетениям.
От этих бедствий народ был избавлен старейшинами и доблестными вождями, так называемыми судьями, среди которых особенно выдаются знаменитая пророчица Девора, доблестный Гедеон и прославившийся своей чудесной силой Самсон, гроза злейшего врага израильского народа — филистимлян. Несмотря на эти подвиги отдельных лиц, вся история периода судей (продолжавшегося около 350 лет) есть история постепенных заблуждений, беззаконий и идолопоклонства народа с неразлучно следовавшими за ними бедствиями. Среди еврейского народа почти совсем забыта была истинная религия поклонения Единому Богу, и на место её явились жалкие суеверия, распространявшиеся разными беспутными, бродячими левитами. Безнравственность стала настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись даже такие гнусные пороки, которыми некогда Содом и Гоморра навлекли на себя страшный гнев Божий.
Внутреннее беззаконие и всеобщее самоуправство довершают картину жизни израильского народа в те дни, «когда у него не было царя и когда каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25). При таком положении избранному народу грозила окончательная гибель, но он избавлен был от неё последним и наиболее знаменитым судьёй Самуилом. Своим проницательным умом открыв самый источник бедствий своего народа, он посвятил всю свою жизнь благу его и решился произвести в нём радикальное религиозно-общественное преобразование. Сосредоточивая в своей личности и духовную, и гражданскую власть и будучи пламенным ревнителем веры отцов, он с целью возрождения народа, сам будучи пророком и учителем веры, пришёл к мысли основать учреждение, которое могло бы навсегда служить источником духовного просвещения и из которого могли бы выходить просвещённые ревнители веры и закона. Такое учреждение и явилось в виде пророческих школ, или так называемых «сонмов пророков». Из этих школ впоследствии и выходили те доблестные мужи, которые бесстрашно говорили горькую правду сильным мира сего. Одушевлённые самоотверженной ревностью об истинном благе народа, они были бесстрашными поборниками истинной религии и выступали решительными защитниками её при всякой угрожавшей ей опасности. Деятельность их развивалась и крепла по мере хода исторической жизни народа, и с течением времени они сделались грозными мстителями за всякое попрание религии, истины и справедливости. Своей неустанной проповедью они с этого времени не переставали будить совесть народа и его правителей и тем поддерживали в нём дух истинной религии и доброй нравственности.
Мудрое правление Самуила продолжалось до его преклонных лет; но беззаконные действия его негодных сыновей вновь угрожали народу возвращением к прежним бедствиям, и тогда в народе явилось непреодолимое желание решительно покончить с периодом анархии и он стал просить престарелого судью поставить над ним царя, который бы «судил их, как и прочие народы». Это желание было вызвано в народе окончательным сознанием своей неспособности к самоуправлению по возвышенным началам теократии, как они изложены были в законодательстве Моисея, хотя самое учреждение царской власти отнюдь не противоречило началу теократии и, напротив, в самом законодательстве Моисея предвиделось как необходимая ступень в развитии исторической жизни народа.(Втор. 22:14,15)
Древняя история (XI—IV века до н. э.)[править | править код]
Период объединённого царства (XI—X века до н. э.)[править | править код]
- Около X века до н. э. на территории Ханаана было создано объединённое еврейское царство.
Правление Саула (XI век до н. э.)[править | править код]
Самуил, уступая желанию народа, помазал на царство Саула (Шаула), происходившего из отличавшегося своей воинственностью колена Вениаминова.
Новый царь, и после избрания на царство с истинной патриархальностью продолжавший предаваться мирному труду пахаря, скоро показал свою воинственную доблесть и нанёс несколько поражений окружающим враждебным народам, особенно филистимлянам, со времени Самсона сделавшимися злейшими угнетателями Израиля. Но эти подвиги вскружили ему голову, и он от первоначальной простоты начал круто переходить к высокомерному самодержавию, не стеснявшемуся в своих действиях даже указаниями престарелого пророка Самуила и закона Моисея. Отсюда неминуемо произошло столкновение между светской и духовной властью, и так как всё показывало, что Саул и дальше пойдёт всё в том же направлении, прямо угрожавшем подорвать основной принцип исторической жизни избранного народа, то оказалась печальная необходимость пресечь этот царственный род и преемником ему был избран юный Давид из колена Иудина, из города Вифлеема.
Продолжительность царствования Саула не была однозначно указана в Библии, его смерть датируется, по разным источникам, 1055—1004 годами до н. э.
Правление Давида[править | править код]
На рубеже 2—1-го тысячелетия возникает Израильское царство Давида[3]. Давид, помазанный на царство, когда ещё был пастухом, стал знаменитейшим царём Израиля и родоначальником длинной линии царей иудейских почти до конца политического существования израильского народа.
Новый избранник не сразу вступил на престол, а должен был всю молодость провести в разнообразных приключениях, скрываясь от кровожадной ревнивости всё более падавшего нравственно царя Саула.
В течение первых семи лет царствования его резиденцией был Хеврон, а после убийства сына Саула, Иевосфея (Ишбошета) все колена признали Давида своим царём.
Давид пришёл к убеждению, что для утверждения царской власти в стране ему необходима столица, которая, не принадлежа никакому колену в отдельности, могла бы служить общей столицей для всего народа. Для этой цели он наметил одну сильную крепость на рубеже между коленами Иудиным и Вениаминовым, которая, несмотря на все усилия израильтян, отстаивала свою независимость и до того принадлежала храброму племени иевусеев. То был Иерусалим, который, как видно из новейших открытий, ещё до вступления евреев в Ханаан занимал важное положение среди других городов страны, имея над ними своего рода гегемонию. Крепость эта теперь должна была пасть перед могуществом нового царя, и Давид основал в ней свою царскую столицу. Новая столица благодаря своему великолепному положению начала быстро стягивать к себе иудейское население, скоро расцвела пышно и богато, и Иерусалим стал одним из знаменитейших городов в истории не только израильского народа, но и всего человечества.
С Давида начинается быстрый расцвет и всего царства. Благодаря необычайной энергии этого гениального царя скоро приведены были в порядок расстроившиеся в конце прежнего царствования дела внутреннего благоустройства, и затем начался целый ряд победоносных войн, во время которых окончательно были сокрушены злейшие враги Израиля — филистимляне, а также моавитяне и идумеяне, земли которых сделались достоянием Израиля. Благодаря этим победам и завоеваниям царство израильского народа сделалось могущественной монархией, которая на время повелевала всей Западной Азией и в руках которой находилась судьба многочисленных народов, трепетно приносивших свою дань грозному для них царю. С финикиянами израильтяне вошли в ближайшие дружественные отношения, и эта дружба с высококультурным народом была весьма полезна и выгодна им в деле развития их материальной культуры. Вместе с тем начала быстро развиваться и духовная жизнь, и к этому именно времени относится богатейший расцвет древнееврейской духовно-религиозной поэзии, которая нашла себе особенно замечательное выражение в дивных своей глубиной и пламенностью чувств Псалмах самого Давида и приближённых к нему певцов. К концу царствования вследствие введённого царём многожёнства начались различные смуты, которыми были омрачены последние годы жизни великого царя, и после тяжёлых смятений престол перешёл к сыну самой любимой его жены, но вместе с тем и главной виновницы его бедствий, Вирсавии, именно к юному Соломону (ок. 1020 до н. э.).
Правление Соломона[править | править код]
Соломон (Шломо) наследовал от своего отца обширное государство, простиравшееся от «реки египетской до великой реки Евфрата». Для управления таким государством требовался обширный ум и испытанная мудрость, и, к счастью для народа, юный царь был от природы наделён светлым умом и проницательностью, давшими ему впоследствии славу «мудрейшего царя». Пользуясь установившимся миром, Соломон обратил всё своё внимание на культурное развитие государства и в этом отношении достиг необычайных результатов. Страна разбогатела, и благосостояние народа возросло до небывалой степени. Двор Соломона превосходил в своём блеске дворам величайших и могущественнейших властелинов тогдашнего цивилизованного мира. Но высшим делом и славой его царствования было построение величественного Храма в Иерусалиме, заменившего собой обветшавшую Скинию, который отныне стал национальной гордостью Израиля, душой его не только религиозной, но и политической жизни.
При нём же и поэзия достигла своего наивысшего развития, и замечательнейшими произведениями её служит знаменитая «Песнь Песней» (Шир ха-ширим), по своей внешней форме представляющая нечто вроде лирической драмы, воспевающей любовь в её глубочайшей основе и чистоте. При Соломоне еврейский народ достиг кульминационного пункта своего развития, и с него же началось обратное движение, которое всего заметнее сказалось на самом царе. Конец его царствования омрачился разными разочарованиями, причиной которых главным образом было дошедшее до необычайных размеров многожёнство и связанные с ним непомерные расходы. Народ стал тяготиться быстро возраставшими налогами, и Соломон кончил жизнь с убеждением, что «всё суета и томление духа», и с опасением за будущность своего дома, которому угрожал выступивший уже при нём Иеровоам.
Эпоха Первого Храма (IX—VII века до н. э.)[править | править код]
- В X веке до н. э. царём Соломоном был построен Храм (Бейт а-микдаш, «Дом Святости») в Иерусалиме. На протяжении многих веков создаётся Танах (еврейское Священное Писание).
Несмотря на битву между великими древними державами Египтом, Ассирией, а потом и Нововавилонским царством за гегемонию в данном регионе, несмотря на внутренний раскол, приведший к созданию двух, подчас враждовавших друг с другом еврейских царств, еврейский народ, его политические и религиозные лидеры смогли настолько укрепить связь евреев с этой землёй и Иерусалимом, что даже уничтожение еврейского государства и Иерусалимского храма и выселение евреев в Месопотамию не положило конец их национальной истории.
Период разделённых царств (ок. 930 до н. э. — 722 год до н. э.)[править | править код]
После смерти Соломона (932—928 до н. э. по разным датировкам), при его преемнике, неопытном и заносчивом Ровоаме, народ израильский разделился на два царства, из которых большее (десять колен) отошло к Иеровоаму из колена Ефремова. Эти части стали называться Иудейским царством и Израильским царством, и между ними началось ожесточённое соперничество, которое истощало их внутренние и внешние силы, чем не замедлили воспользоваться соседи, и уже при Ровоаме египетский фараон Шешонк I сделал быстрый набег на Иудею, взял и ограбил Иерусалим и многие другие города страны и свою победу увековечил в изображениях и надписях на стене великого карнакского храма. С разрывом политического единства начался разрыв и религиозного единства, и в царстве Израильском в политических видах учреждён был новый культ, якобы представлявший собой поклонение Богу Израиля под видом золотого тельца — в Вефиле. Напрасно протестовали против этого великие ревнители монотеизма — пророки, новый культ укоренился и повлёк за собой неизбежное уклонение в самое грубое суеверие и идолопоклонство, за которым в свою очередь следовал полный упадок нравственности и ослабление общественно-политического организма. Вся история царства Израильского представляет собой непрестанные внутренние смуты и политические перевороты.
В 722 году столица Северного Израильского царства — Самария — была разгромлена воителями Ассирии, а его население, потомки десяти из 12 колен Израиля, было переселено ассирийцами в Мидию. Уведённый в плен народ Израильского царства бесследно затерялся там среди окружающих народностей Востока. Предания о «десяти пропавших коленах» были популярны в еврейском, христианском и мусульманском фольклоре, до сих пор распространены среди восточных еврейских общин и среди иудействующих движений. Согласно одной из легенд они вернутся перед приходом Мессии (Машиаха).
Иудейское царство при господстве Ассирии и Вавилонии (720—586 до н. э.)[править | править код]
Иудейское царство, остававшееся более верным истинной религии и закону Моисея и имевшее в Иерусалимском храме, могучий оплот против внешних разлагающих влияний, продержалось дольше Израильского; но оно тоже не избегло роковой участи. В 586 вавилоняне завоевали Иудейское царство, разрушили Иерусалимский храм и увели цвет его населения в Вавилон (Вавилонское пленение).
Вавилонское пленение (586—537 до н. э.)[править | править код]
Вавилонский плен, однако, не стал могилой для народа Иудеи, в отличие от ассирийского плена, ставшего роковым для населения Израиля. Напротив, он послужил первым шагом к распространению чистого монотеизма среди народов языческих, так как с этого именно времени начался тот великий процесс иудейского рассеяния. Спустя 70 лет в силу указа великодушного Кира Персидского, сломившего могущество Вавилона, иудеи получили возможность возвратиться на свою землю и построить новый Храм в Иерусалиме.
Эпоха Второго Храма (VI век до н. э. — I век н. э.)[править | править код]
- Развитие своеобразной еврейской культуры на базе древней традиции и под влиянием эллинистического мира. Формирование библейского канона. Возникновение еврейской диаспоры, связанной с Иерусалимом и еврейским населением в Земле Израиля.
Иудея под персидским владычеством (537—332 до н. э.)[править | править код]
С падением Нововавилонского царства (539) и возникновением Персидской империи, включившей в свои пределы все важнейшие центры древнего мира — в Месопотамии, Малой Азии и Египте, — часть евреев возвратилась в Иудею, где ими был восстановлен Храм и возрождён религиозный центр в Иерусалиме, вокруг которого возобновилась государственная и этническая консолидация евреев. Персидские цари официально признали право евреев жить по законам праотцов, запечатлённым в Торе.
С этого времени начинает складываться доминирующая модель этнического развития евреев, включающая символический и культурный центр в Израиле и обширную диаспору. Возникнув первоначально в Месопотамии и Египте, с конца 1 тыс. до н. э. диаспора охватывает Северную Африку, Малую Азию, Сирию, Иран, Кавказ, Крым, Западное Средиземноморье.
Античный период[править | править код]
Иудея под греческим владычеством (332—167 до н. э.)[править | править код]
После разрушения персидской монархии Александром Македонским Земля Израиля сначала была подчинена Птолемеям в Египте (320—201 до н. э.), затем Селевкидам в Сирии. В эту эпоху в еврейскую среду проникает греческая культура. Высшие классы усваивают греческие нравы и обычаи, наряду с древнееврейским и арамейским распространяется также древнегреческий язык (койне). Одновременно среди евреев распространяются три философских и религиозных течения. Наиболее популярным является учение фарисеев, учителей ревнителей закона. Путём толкований они стремятся приспособить основы Моисеева законодательства к новым условиям жизни, а также оградить чистоту еврейского вероучения и ритуала от языческого и в особенности эллинского влияния. Другого направления держались саддукеи, представители священнических и аристократических классов. Не допуская никаких толкований закона, они требовали от народа слепого исполнения обрядов. Третье направление заключалось в удалении от мирской суеты, в искании спасения в простой суровой жизни. Представителями этого течения были ессеи, родоначальники христианского аскетизма.
Рассеяние евреев по всем странам Востока и Запада началось за III века до н. э. Кроме обширных еврейских колоний в Месопотамии и Персии, Бактрии и Армении, со времени вавилонского пленения, в эпоху господства в Палестине Птоломеев образовалась очень многочисленная колония евреев в Египте (Александрии и др.), где в городе Гелиополе был воздвигнут храм Ония, соперничавший с Иерусалимским. Во II веке до н. э. появились колонии евреев в Риме и некоторых приморских городах западного Средиземноморья.
Освободительные войны Хасмонеев (167—140 до н. э.)[править | править код]
С переходом евреев под сирийское владычество начались при Антиохе IV Эпифане жестокие гонения на еврейский культ и стремление насильственно эллинизировать евреев. В целях национальной самообороны среди евреев, под предводительством священника Маттафии и его сыновей (Маккавеев), возникло восстание (165—141 до н. э.) против сирийцев, закончившееся освобождением Иудеи из-под власти Сирии. В 141 году до н. э. освобождённая Иудея провозгласила правителем сына Маттафеи, Симона (Шимона), родоначальника хасмонейской династии.
Хасмонейское царство (140—37 до н. э.)[править | править код]
Еврейское восстание не только отстояло религиозную независимость Иудеи, но и привело к созданию независимого Хасмонейского царства (164—37) со столицей в Иерусалиме.
В это время эллинизированные группы и нееврейские семитские народы Негева и Заиорданья влились в состав еврейского народа.
Преемником Симона был его сын Иоанн-Гиркан (135—106 до н. э.), соединивший в своём лице царский титул и сан первосвященника. Потомки его были уже далеки от традиций эпохи национального подъёма первых Маккавеев, и всецело поддались влиянию эллинской культуры. После Иоанна-Гиркана царствовали его сыновья Аристобул, 106—105, и Александр Яннай, 105—79. Последнему наследовала его супруга, Саломея Александра, 79—70.
В 63 году до н. э. вспыхнула распря между сыновьями Саломеи, Гирканом II и Аристобулом II, в результате которой был призван третейским судьёй римский полководец Помпей, взявший Иерусалим и обративший Иудею в этнархию, входившую в состав римской провинции Сирия и находившуюся под управлением Гиркана. В 40 до н. э. Антигон, младший сын Аристобула, стал при помощи парфян царём.
Царь Ирод I и его преемники (37 до н. э. — 6 н. э.)[править | править код]
Ирод I Великий, сын идумейского наместника Антипатра, поддерживаемый римлянами, покорил (37 до н. э.) Иерусалим, низверг Антигона, отстроил великолепный Иерусалимский храм (19 до н. э.), Ирод умер в 4 году до н. э. Сын его Архелай низложен в 6 году н. э. римлянами. Иудея присоединена к провинции Сирия и подчинена римскому прокуратору.
Иудея под властью Рима (6—66)[править | править код]
Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого, стал (с 37 по 44 годы), по милости римского императора Калигулы, царём Иудеи.
Упадок Иудеи со времени последних Хасмонеев, гнёт антинациональной политики Иродовой династии, произвол и насилия римских прокураторов вызвали сильное брожение в народе, разбившемся на враждовавшие между собою партии. Особенно сильно распространилось мессианское движение, сначала имевшее национально-политический характер: Мессия-спаситель явится и восстановит в Иудее независимое царство мира и справедливости;
В этот период еврейская диаспора ещё более укрепила свою связь с Иерусалимом. Собиравшийся при Храме Синедрион рассылал по всему древнему миру гонцов, руководя жизнью еврейской диаспоры в Риме и Александрии, в Вавилонии и Афинах, а евреи диаспоры прибывали в Иерусалим, особенно на большие праздники, и задерживались там месяцами, изучая Тору и наблюдая Храмовую службу. Они говорили на разных языках, носили одежды, принятые там, откуда они приехали, но ощущали себя одним народом.
Война с римлянами и падение иудейского государства (66—70)[править | править код]
В 66 году разразилось восстание против римлян (Первая Иудейская война), окончившееся в 70 году, после взятия Иерусалима Титом, разрушением Храма, избиением и изгнанием евреев.
Период Мишны и Талмуда (I—VII века)[править | править код]
- Укрепление еврейских общин, развитие духовной жизни народа в отсутствие собственного государства. Создание канонического литературного корпуса, определяющего мировоззренческие установки каждого еврея.
От разрушения Иерусалима до восстания Бар-Кохбы (70—138)[править | править код]
Политика Римской империи, направленная на внедрение в сознание порабощённых народов представления об исключительной, «божественной» власти императора, а также поощряемое римскими наместниками укрепление позиции других народов в Земле Израиля привели к многочисленным восстаниям еврейского народа против Рима (Иудейские войны, I—II века н. э.). В результате Второй Храм был разрушен (70) и большое число евреев было изгнано из Иудеи, пополнив еврейские общины диаспоры. После жестокого разгрома последнего восстания евреев под предводительством Бар-Кохбы (132—135) еврейскому присутствию в Иерусалиме и Иудее вообще был положен конец, древняя Александрийская община была уничтожена. Тогда же появился введённый римлянами термин «Палестина», который должен был стереть память о еврейском присутствии в Земле Израиля.
В Палестине до завершения Иерусалимского Талмуда (200—425)[править | править код]
Национальная трагедия побудила еврейский мир внутренне перестроиться. Деятельность еврейского центра в Явне, а позднее деятельность рабби Иехуды ха-Наси привели к тому, что еврейское руководство учредило автономную судебную и образовательную систему, в надежде на то, что рано или поздно возникнут условия для возрождения еврейского государства в Земле Израиля. Этот процесс отражён в Мишне и созданных на её основе Иерусалимском и Вавилонском Талмуде. Таким образом, еврейские общины разрабатывали формы духовной жизни, направленные на сохранение национальной неповторимости в отсутствие собственного государства.
В Вавилонии до заключения Вавилонского Талмуда (200—500)[править | править код]
После разрушения Храма и особенно разгрома восстания Бар-Кохбы главная масса евреев ушла в Месопотамию, где в течение восьми веков находился духовный и интеллектуальный центр евреев, действовали еврейские талмудические академии, жили духовные главы евреев: эксилархи и гаоны (этот период еврейской истории называется эксилархатом и гаонатом).
В Римской империи и Византии[править | править код]
Одновременно обширные потоки еврейской эмиграции направились в Египет, вдоль всего африканского побережья до Марокко, перешли на Пиренейский полуостров. Другой эмиграционный поток шёл на Балканский полуостров, вдоль всего Чёрного моря (Крым), отсюда доходил по Днепру до Киева. Обширные еврейские колонии возникли также в Риме, в северной Италии, южной Франции и в прирейнских городах.
До принятия в Римской империи христианства евреи везде жили мирно среди других народов, занимаясь земледелием, ремёслами, и вели торговые сношения между Востоком и Западом. В Италии, Франции и Германии евреи до начала средних веков не подвергались никаким ограничениям в занятиях. В Ломбардии и южной Франции они занимались земледелием наряду с торговлей.
С возникновением христианской империи еврейские общины оказались в принципиально новой ситуации. Если языческая Римская империя физически лишила еврейский народ его родины и столицы, то христианизированный Рим претендовал на контроль над духовной жизнью еврейского народа[4].
Преследования евреев начались в Византии при Феодосии II (401—450), который отличался религиозным фанатизмом и стремлением к полицейскому регламентированию внутренней жизни[5].
Раннее средневековье (VI—IX века)[править | править код]
- Существование еврейских общин в диаспоре между двумя цивилизациями — христианством и исламом. Формирование основных институтов общинного самоуправления.
С VII века н. э. положение евреев усложнилось. Еврейские общины в диаспоре оказались разделены между двумя цивилизациями — христианством и исламом, которые хотя и были исторически связаны с древним еврейским духовным наследием, на деле заявляли о своём принципиальном отмежевании от еврейства. Новая исламская цивилизация повела борьбу с христианской цивилизацией как за политическое господство в Земле Израиля, так и за духовные ценности живущих в ней народов, в том числе и евреев.
Евреи, не имевшие ни своего государства, ни своей армии, должны были выработать новые формы социальной организации, которые позволили бы им сохранить своё духовное наследие и утвердить свой автономный статус в нееврейском обществе. Такой формой стала средневековая община, вписавшаяся в общую корпоративную структуру феодального общества и создавшая условия для удовлетворения социальных, религиозных и экономических потребностей евреев. Руководство еврейских общин не только справилось с задачей выживания, но и создало условия для экономического и духовного развития, более того, евреи зачастую становились торговыми и культурными посредниками между враждующими христианами и мусульманами.
Сталкиваясь с новыми формами общественной жизни и входя в контакт с новой для них культурой, евреи не замыкались в традиционной системе представлений, а стремились обогатить свой внутренний мир за счёт достижений окружающего их общества. Результатом этого процесса стало формирование многообразной и самобытной средневековой еврейской культуры, включавшей в себя как древние культурные пласты, так и плоды творческой деятельности последних поколений.
В Палестине[править | править код]
Этнический центр в Палестине практически прекратил существование после арабского завоевания (638).
Евреи на Востоке до конца эпохи гаонов (500—1040)[править | править код]
В Месопотамии при багдадских халифах и в Испании при владычестве мавров евреи пользовались равноправием, допускались к высшим государственным должностям.
В Византии[править | править код]
В Европе до крестовых походов (500—1096)[править | править код]
Высокое и позднее средневековье (X—XV века)[править | править код]
- Перемещение демографического и культурного центра еврейства в Восточную Европу.
В Исламском мире[править | править код]
В XII веке в Испании и Северной Африке значительное число евреев были насильственно обращены в ислам мусульманскими фанатиками альмохадами.
Возрождение еврейства в арабской Испании (950—1215)[править | править код]
В Западной Европе[править | править код]
Изгнания и преследования евреев привели к рассеянию еврейского народа по всем уголкам мира — от Северной Африки и Османской империи до открытой Колумбом Америки и сопровождались усилением изоляции евреев и их вытеснением на периферию общественной жизни в Европе.
Несмотря на тяжкие экономические условия и постоянные преследования, творческая жизнь не замирала среди евреев. Знакомые по арабским переводам с греческой литературой, они перевели многие классические сочинения на еврейский язык, изучали в подлиннике греческих и латинских авторов. В эпоху возрождения итальянские и нидерландские евреи явились учителями многих гуманистов, которые с Иоганном Рейхлином во главе взяли под защиту Талмуд, когда фанатики воздвигли костры из еврейских книг.
В христианской Европе в эпоху крестовых походов (1096—1215)[править | править код]
В моменты социальных и религиозных потрясений евреи становились первыми жертвами насилия. Кровавые преследования евреев начались со времени Первого крестового похода (1096 год), когда были разгромлены богатые еврейские общины на Рейне, в Трире, Шпейере, Майнце и Кельне. Евреи были истреблены, женщины подверглись насилию, а дети насильно крещены. С этих пор до конца XVIII века евреи в Западной Европе периодически подвергались гонениям. Короли (напр., Филипп II Август и др.) и князья, когда нуждались в деньгах, изгоняли евреев из своих владений, отбирали у них всё имущество и призывали их назад для оживления торговли, давали евреям наживать состояния, чтобы вновь отобрать всё для себя.
Во многих государствах, владениях и городах евреи с XII века подвергались разнообразным притеснениям: их принуждали принимать крещение (марраны), жить в особых кварталах (гетто), носить особый костюм, запрещалось владеть землёй, заниматься земледелием и многими ремёслами; во многих местах им разрешалось заниматься исключительно отдачей денег в рост и торговлей старым платьем.
Века бесправия и мученичества до изгнания евреев из Франции (1215—1394)[править | править код]
С XIII века в Западной Европе стали распространяться кровавые наветы против евреев, за которыми последовали дополнительные антиеврейские постановления католической церкви. В 1290 году евреи были изгнаны из Англии, в 1394 году — из Франции. В 1348 году евреев обвинили в распространении эпидемии чумы и истребили во многих городах.
Золотой век еврейства в Испании (VIII—XII века)[править | править код]
Начиная с 750 по 1100 годы длился золотой век ислама и испанского еврейства. Евреи-торговцы говорили на многих языках: латыни, иврите, греческом, персидском, арабском и поэтому использовались правителями не только Испании, но других стран, для дипломатической работы. Выезжая в другие страны, они могли не только торговать, но и вести переговоры. Одним из наиболее успешных дипломатов был испанский еврей Хаздай ибн Шапрут. И хотя евреям жилось среди правивших тогда Испанией мусульман лучше, чем среди христиан, однако и там возникали фундаменталистские движения пробуждения, и мусульмане могли выступать против евреев и вырезать их. Упомянутый лидер Хаздай ибн Шапрут выступал в качестве защитника своего народа, и обращался к мусульманским лидерам, чтобы те утихомирили фундаменталистов и защитили его народ.
Последний век еврейства в Испании (1391—1492)[править | править код]
В 1391 году 5000 еврейских семей были уничтожены в Севилье; разрушены 23 синагоги. В этот же год — 20 000 евреев сожжены на костре и начинаются жестокие преследования евреев в Испании. В 1492 — Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская издают указ, касающийся проживавших в Испании более полутора тысяч лет евреев. Поставленные перед выбором — или принять христианство, или убираться вон, большая часть иудеев отказалась предать свою веру и были изгнаны из страны. В результате их имущество конфисковали, а громадная задолженность королевской четы перед еврейскими кредиторами таким образом была присвоена властями. Хотя церковные инквизиции существовали по всей Западной и Центральной Европе с XII по XIX века, в Испании она была жестокой и широкомасштабной. По существующим оценкам, 30 тысяч марранов — крещённых представителей еврейского народа, были сожжены на кострах испанской инквизицией с XV века по 1808 год. Вдобавок к этому в 1492 году все некрещёные евреи были изгнаны из страны. Они были лишены всего своего имущества и не имели никаких средств самозащиты, поэтому приказ о массовой высылке из страны был для них фактически смертным приговором. Испанские евреи (вместе со многими другими, жившими в разные века в различных странах) постоянно находились «между молотом и наковальней».
В том же 1492 году около 300 000 евреев изгнано из Испании и Португалии, где в течение семи веков под владычеством мавров находился второй иудейский духовный центр, и расцвела новоеврейская литература. Из Испании евреи направились в Нидерланды, Италию, где пользовались покровительством некоторых пап, и в Турцию. В Германии иудеи за уплату особой подати были взяты под защиту императоров.
В Польше, Литве и Руси (XII—XV века)[править | править код]
На Юге и Юго-Востоке Руси и в Киеве евреи встречаются с IX—XI веков. В Польше и Литве евреи поселились с XI века. Особенно усилились здесь еврейские поселения со времени жестоких преследований евреев в XII—XIV веках. Короли Болеслав II Благочестивый (1264) и Казимир III (1334—1367) даровали польским евреям грамоты, в которых евреям были предоставлены разные права и льготы и права внутреннего общинного самоуправления и суда. Такого же содержания грамоты были даны литовским евреям великим князем Витовтом (1388) и королём Сигизмундом I (1507). До конца существования польско-литовского государства евреи пользовались дарованными им правами.
Новое время (XVI—XVIII века)[править | править код]
- Постепенная интеграция евреев в европейском обществе, сопровождавшаяся ослаблением и коренной перестройкой традиционных общинных институтов.
Перестройка средневекового общества под влиянием новых общественно-политических взглядов (абсолютизм, меркантилизм, Просвещение) и растущая секуляризация общества привели к пересмотру традиционного отношения к евреям в Европе. Переход от Средневековья к Новому времени был ознаменован началом эмансипационного процесса, поэтапным предоставлением евреям равных с неевреями гражданских прав. Эмансипация привела к возникновению многообразных контактов между евреями и их соседями: евреи проникли во все сферы общественной и культурной жизни.
В Турции и Палестине до упадка саббатианства (1492—1750)[править | править код]
В Западной Европе[править | править код]
По освобождении Нидерландов от испанского гнёта там расцвела еврейская община, из среды которой вышел Барух Спиноза. После победы английской революции 1640 года над абсолютизмом и клерикализмом Тюдоров евреям разрешено было вновь селиться в Англии.
В Польше и России[править | править код]
В XVII веке во время казацких набегов в польские области евреи сильно пострадали особенно в эпоху Богдана Хмельницкого и гайдамачины. Разорение евреев в юго-западной части польского государства создало благоприятную почву для мистических движений и сектантства. Сильное впечатление не только на польских евреев, но и евреев Западной Европы произвело появление в Смирне лжемессии Саббатая Цви (1668). В середине XVIII века среди евреев Галиции, Подолии и Волыни распространилось мистическое учение хасидизма, в котором выразилось искание удручённого гонениями еврейства утешения в восторженной вере и протест против сухого формализма ортодоксального иудаизма. В середине XVIII века в Подолии и Галиции появилась полухристианская секта франкистов.
В 1742 году издан Указ «О высылке как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сёл и деревень, всех Жидов».
После первого польского раздела евреям было обещано в указах Екатерины II (1772 и 1785 годы) — пользование выгодами и правами «без различия закона и народа», наравне с лицами других состояний, принятых под скипетр российской державы. Тем не менее, вскоре евреи стали подвергаться разнообразным ограничениям.
Переходное время (1750—1795)[править | править код]
Новейшее время (XIX—XX века)[править | править код]
Наполеон возобновляет культуру израильтян 30 мая 1806 года
Формирование национальных идеологий в Европе привело к замедлению процесса интеграции евреев в окружающем обществе. Как реакция на их деятельность и активное присутствие в разных сферах жизни национальных государств, получили распространения антисемитские концепции. Вместе с тем, под влиянием общего национального пробуждения народов Европы возникло сионистское движение, положившее начало созиданию еврейского «национального очага» в Палестине. Рост антисемитизма, связанный с национальным самоутверждением народов Европы на рубеже XIX—XX веков, привёл к размаху сионистского движения, особенно среди ассимилированного еврейства.
В Западной Европе[править | править код]
Эмансипация евреев в Западной Европе началась с Великой французской революции. В 1791 году евреи Франции получили общие гражданские права. В Германии равноправие евреев было обещано в разных странах в годы национально-освободительного подъёма 1812—1814 годов. В 1858 году евреи допущены в английский парламент. Фактически постепенное уравнение в правах немецких евреев завершилось в 1848—1862 годах. Германской конституцией 1871 года признано равноправие евреев.
На начало XX века везде в Западной Европе (за исключением Румынии, где постановление Берлинского конгресса 1878 о предоставлении равноправия евреям не было приведено в исполнение) и в Америке, куда в течение XIX века переселилось более 1 миллиона евреев, евреи пользовались всеми гражданскими и политическими правами.
В то же время евреи нередко теряли привилегию на свои особенные религиозно-общественные законы. Вырабатывая ответ на новую ситуацию, эмансипированные евреи в странах Европы пришли к разным формам существования религиозной традиции, вплоть до индифферентного отношения к ней. Так возникли ортодоксальный, консервативный и реформистский иудаизм и началась ассимиляция евреев среди других народов в рамках их национальных государств.
В Восточной Европе[править | править код]
Особое значение в этот период приобретает еврейский центр в Восточной Европе. Сформировавшаяся ещё в Средние века самобытная культура восточноевропейского еврейства становится основой наиболее значимых социально-культурных явлений в еврейском обществе Нового времени в целом. Идеологии и движения, возникшие в Восточной Европе, экспортируются в другие общины мира благодаря массовой миграции евреев из этого региона на Запад и в Палестину, начавшейся в конце XIX века.
В России[править | править код]
В России евреи большими массами живут со времени присоединения польско-литовских областей в конце XVIII века.
Во внутренней жизни российских евреев в течение XIX века произошли значительные перемены. С начала 1860-х годов значительно усиливалось стремление евреев к общеевропейскому образованию, чему благоприятствовала либеральная политика правительства 1860—1870-х годов. Появился класс еврейской интеллигенции, принимавшей деятельное участие в общественной жизни, русской литературе и свободных профессиях. Политическая коррекция реформ ознаменовалась в 1881 году сразу после смерти Александра второго рядом погромов и беспорядков в южных губерниях и изданием новых ограничительных законов 1882 и 1891 годов. Ограничения евреев негативно отразились на их экономическом положении и содействовали распространению бедности и эмиграционного движения в среде еврейского населения.
В Палестине[править | править код]
Хаскала[править | править код]
Наряду с уравнением в гражданских правах в Западной Европе евреи с конца XVIII века приобщаются к европейскому просвещению и, начиная с Мозеса Мендельсона, выдвигают ряд деятелей, учёных и литераторов, работающих как в среде еврейского народа в целях его просвещения, так и на общеполитической и литературной почве (Ласкер[уточнить], Лассаль, Маркс, Кремьё, Биконсфильд, Бёрне, Гейне, позже Эйнштейн и др.).
В США[править | править код]
Катастрофа европейского еврейства (Холокост)[править | править код]
С приходом к власти в странах Европы ряда ультраправых режимов, в первую очередь, немецких национал-социалистов, начались массовые преследования евреев. В ходе Второй мировой войны на территориях подконтрольных немецким нацистам и их союзникам проводился геноцид, в ходе которого было уничтожено около 6 млн евреев.
Современная история (после 1945)[править | править код]
Массовое уничтожение евреев Европы побудило народы мира согласиться на возрождение еврейского национального государства Израиль со столицей в Иерусалиме. Укрепление государства Израиль происходит в условиях непрекращающегося арабо-израильского конфликта, а современная еврейская диаспора служит опорой Израилю.
Примечания[править | править код]
Литература[править | править код]
- Библейская история // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Немировский А. А. У истоков древнееврейского этногенеза. Ветхозаветное предание о патриархах и этнополитическая история Ближнего Востока. — М., 2001. — 268 c. — ISBN 5-85941-087-5
- История еврейского народа = History of the Jewish people / под ред. Ш. Эттингера. — Мосты культуры, Гешарим, 2001. — 688 с. — 3000 экз. — ISBN 5-93273-050-1.
- Под сенью креста и полумесяца: евреи в Средние века / Марк Коэн; пер. с англ. Любови Черниной. — Москва: Книжники; Текст, 2013.
Ссылки[править | править код]
- Иудейские древности, Иосиф Флавий
- О древности еврейского народа. Против Апиона, Иосиф Флавий
- Краткая история евреев, С. М. Дубнов
- Новейшая история евреев, С. М. Дубнов
- Евреи, Бог и история, Макс Даймонт
- История евреев с древнейших времён по Шестидневную войну, Сесиль Рот, Иерусалим, 1967
- [jewish-library.ru/dzhonson/populyarnaya_istoriya_evreev/ Пол Джонсон. «Популярная история евреев»]
- Живая связь. Еврейская история, традиции и культура, Зеэв Султанович
- Еврейская энциклопедия на сайте Руниверс в форматах DjVu и PDF
- учебник «История еврейского народа», р. Моше Ойербах
- История еврейского народа, подборка статей и очерков.
- Наш народ. История еврейского народа, Яаков Изакс
- Ресурс по истории еврейского народа
- От текста к традиции. История иудаизма, Л.Шиффман
- Еврейство и сионизм, Н. Арарат
- История еврейского народа в эпоху Второго Храма, Э. Гринберг
- Курс лекций по истории евреев в России (недоступная ссылка), В. В. Энгель
- Очерки времен и событий из истории российских евреев (недоступная ссылка), Феликс Кандель
- Учебник «Еврейский народ в эллинистическом мире»
- По тропам еврейской истории, Рут Сэмюэлс
- Курс лекций «История еврейства», Д-р Элиягу Иешурун, составитель русской версии: проф. Йегуда Айзенберг
- Очерки по истории еврейского народа под редакцией С.Эттингера
- Курс лекций по истории еврейского народа, подготовлен научным коллективом под руководством профессора Одеда Шремера
- Сборник лекций «Евреи в Римской империи в Эпоху Талмуда»
- Евреи в раннесредневековой Византии, Анатолий Хазанов
- Литература по истории и археологии античной Иудеи
- Пособие Эпоха Мишны и Талмуда, д-р Адиэль Шремер
- Исторические карты и иллюстрации
- Сетевой портал «Заметки по еврейской истории»
- Евреи и арабы — их связь на протяжении веков Ш. Д. Гойтен
«Гешарим» Иерусалим 5762, «Мосты культуры» Москва, 2001 (ISBN 5-93273-024-2) - Происхождение евреев выяснили ученые, проанализировав 237 геномов // РИА Новости. — 2010. — 4 июня.
|
|
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым). Список проблемных доменов |
Часть 3
«Тьма, пришедшая с Мёртвого моря, поглотила ненавидимый инородцами город.
Пропал старинный русский город, как будто не существовал на свете.
Всё пожрала тьма, напугавшая всё живое в городе и его окрестностях…»
Дом-музей Лизы Калитиной в Орле.
На протяжении последних постперестроечных десятилетий планомерно проводится изуверская политика разрушения и уничтожения культуры, полноценного образования. Голоса по-настоящему обеспокоенных этой проблемой людей также остаются не доходящим до адресата, неуслышанным «гласом вопиющего в пустыне».
Такой участи лучше бы пожелать современным руководителям российского просвещения – затейникам ЕГЭ и ОГЭ, преднамеренно оглупляющим учеников, заранее поделившим на касты детей, с младенчества встраиваемых в государственную машину по закабалению и подавлению личности на всех социальных уровнях. Сегодня только толстосумы могут дать своим отпрыскам достойное образование, стоящее больших денег. Но дети бедняков и родителей из так называемого «среднего класса» вынуждены учиться «чему-нибудь и как-нибудь». В лучшем случае их ждёт удел обслуживающего персонала для сильных мира сего, в худшем – они становятся просто «рабочей силой» или «человеческим материалом», которым власть имущие могут распоряжаться по своему усмотрению.
Государственные образовательные учреждения с их педагогическими кадрами встроены в государственную систему, являются её частью, выполняют политизированный госзаказ. Безбожно урезаются «сверху» и без того скудные часы школьной программы, отведённые на изучение русского языка и литературы.
Варварское притеснение русской словесности в школе привело к катастрофической тотальной безграмотности во всех областях деятельности, вплоть до высших властно-чиновничьих сфер. Это примета нашего времени, неоспоримый факт. Чудовищно то, что в России повальной неграмотности уже мало кто удивляется и почти никто её не стыдится.
Автор данных строк свидетельствует, что многие учащиеся выпускных классов орловских школ, гимназий и лицеев даже не знают, как пишется фамилия великого земляка, искажая её до неузнаваемости: «Тургенив» или даже «Тургеньив». Создаётся впечатление, что в орловских учебных заведениях, как и повсюду в России, из детей формируют каких-то инопланетян-пришельцев, без культурно-исторического наследия, без родства и родины, «как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела» (Н. Лесков).
Литературу поспешно «проходят» (в буквальном смысле: проходят мимо литературы) как занудную обязаловку. Русская классика в школе ещё не прочитана, её глубинный духовный смысл не доводится учителями до ума и сердца учеников, потому что зачастую не доходит и до самих бездарных, недоученных или бездуховных горе-педагогов. Русскую литературу преподают примитивно, поверхностно, обзорно, не требуя обязательного вдумчивого, размеренного прочтения произведений великих русских писателей, ограничиваясь приблизительными, азбучными пересказами. Так навсегда отбивается охота возвращаться к сокровищнице отечественной словесности в дальнейшем, перечитывать и постигать её на новых уровнях «разумения о смысле жизни». Преподавателям словесности требуется не просто занимать свои рабочие места – здесь нужно особое служение, горение духовное. Когда «душа требует, совесть обязует, тогда и сила большая будет», – так учил Святитель Феофан Затворник, великий духовный писатель, земляк Тургенева и Лескова – также уроженец орловской земли.
Среди всех остальных учебных предметов единственно литература не столько школьный предмет, сколько формирование человеческой личности через воспитание души. Русская классика, подобно Новому Завету, всегда нова и актуальна, даёт возможность соединять времена. Однако страх чиновников от образования перед честным обличительным словом русских писателей столь силён и так сильна ненависть к отечественной литературе и её «божественным глаголам», призванным «жечь сердца людей», что до настоящего времени христиански одухотворённая отечественная словесность заведомо искажается, преподносится с атеистических позиций в подавляющем большинстве учебных заведений современной России. Так что они вполне подходят под определение, данное в одноимённой статье Лескова о школах, где не преподавался Закон Божий, «Безбожные школы в России» (1881), опубликованной ровно 140 лет назад. Безбожники формируют и безостановочным конвейером выпускают из школ безбожников, здесь – корень зла, отсюда проистекают многие беды.
В области общественных наук марксизм-ленинизм был отменён. Однако начиная с советских времён и до сего дня глобальная мировоззренческая тема о происхождении жизни и человека насильственно внедряется в несформировавшееся сознание и неокрепшие души учащихся в виде преподавания безбожной теории Дарвина в качестве единственно верной и научно аргументированной, хотя по сути это даже не теория, а недоказанная гипотеза.
Дарвинизм проповедует естественный отбор, борьбу за выживание, эволюцию видов. Применительно к общественным отношениям, к ведению делового оборота данные установки приводят к чрезвычайно негативным последствиям. Так, естественный отбор предполагает безжалостно-жестокое отношение к слабым, вплоть до их уничтожения. Удивительно ли, что псевдотеория и практика «зверочеловечества» формирует из людей существ, живущих по звериным законам: «Выживает сильнейший», «Глотай других, пока тебя не проглотили» и т.п., – что неизбежно ведёт к девальвации морально-нравственных ценностей, попранию высшего, Божеского начала в человеке, к гибели души как таковой, в итоге – к разрушению человеческого общества, которое на этом пути может дойти до людоедства, самоуничтожения?
Русская классика – воспитательница ума, души и сердца – изгоняется из вузов и школ, нацеленных на формирование усреднённого «продукта» – биороботов, узких специалистов-прагматиков, выставляемых, как товар, на рынок труда. Невнимание к духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от русской почвы подводят к тому, чтобы воспитанники безбожных школ в России обращались в мошенников и авантюристов, преступников и злодеев, живущих по звериным законам борьбы за существование. О подобных закоренелых грешниках апостол Павел свидетельствовал, что «они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1: 29–31).
Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждал, что «без Христа суетно всё образование». Кому и для чего выгодно вылепливать в «безбожных школах» духовно неразвитых самолюбивых безбожников, подменяя Христа ложными идеалами и кумирами? Христос же, согласно утверждению Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), – «вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек». Достоевскому, великому русскому классику-пророку, осенью нынешнего года, богатого на юбилеи, исполнилось бы 200 лет; в феврале – 140 лет памяти писателя.
У лесковского романа «На ножах» (1871) в этом году также юбилейная круглая дата. Несмотря на 150 лет, истекшие со времени создания этого произведения, оно нисколько не утратило своей социально-нравственной значимости и по-прежнему звучит потрясающе современно. Писатель выявил здесь самые разнообразные типы продажных, беспринципных дельцов зловещей капиталистической эпохи – «деятелей на все руки» сатанинской закваски: «Вот один уже заметное лицо на государственной службе; другой – капиталист; третий – известный благотворитель, живущий припеваючи за счёт филантропических обществ; четвёртый – спирит <…>; пятый – концессионер, наживающийся на казённый счёт; шестой – адвокат <…>; седьмой литераторствует и одною рукою пишет панегирики власти, а другою – порицает её». Сущность их «направления» выразительно обобщает говорящая фамилия некоего «медицинского студента», занимающегося педагогической практикой, – «Чёртов»:
«– Гм! Фамилия недурна!
– Да, и с направлением».
Это «направление», как смертельная зараза, распространяется бесами – губителями душ. Так, «медицинский студент Чёртов», ради заработка готовя ребятишек к поступлению в приходское училище, внедряет в детские головы и сердца безбожие, атеистическое презрение к Священному Писанию.
Весьма характерна зарисовка экзамена:
«– Читать умеешь? – вопросил Савоськулопоухий педагог.
– Ну-ка-ся, – отвечал с презрением бойкий малец.
– И писать обучен?
– Эвося! – ещё смелее ответил Савоська.
– А Закон Божий знаешь? – встрел поп.
– Да коего лиха там знать-то! – гордо, презрительно, гневно, закинув вверх голову, рыкнул мальчуган, в воображении которого в это время мелькнуло насмешливое, иронически-честно-злобное лицо приготовлявшего его студента Чёртова».
Этот ответ и ремарка к нему не могут не вызвать евангельского восклицания: «Отойди от меня, сатана!»
Как легко и соблазнительно зло может рядиться в одежду добра. Распознавать такую маскировку учил святой старец Силуан Афонский (1866–1938) (в нынешнем году старцу Силуану – 155 лет): «Всякое зло <…> паразитарно живёт на теле добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым в одежду добра, и нередко высшего добра», потому что «зло всегда действует обманом, прикрываясь добром». Но, как пояснял старец, различение добра и зла необходимо и возможно, поскольку «добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову».
В романе «На ножах» Лесков разоблачил также один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии противников Христа, подобных Тихону Кишенскому – экс-нигилисту, жадному и хитрому ростовщику, мошеннику, продажному журналисту, вероломному интригану, шпиону, «полицианту», подлецу и предателю – словом, «деятелю на все руки». Таким, как он, «нужен столбовой дворянин», в том числе и для того, чтобы под прикрытием русских, особенно знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России с целью кабалить, разлагать и уничтожать коренное население страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски прикрываясь благими целями доброделания, безбожно обогащаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне.
В этой связи наиболее актуально звучат слова Лескова, который устами своего героя-правдолюбца Василия Богословского в повести «Овцебык» (1862) обращался к тем так называемым «благодетелям» народа, у которых слово расходится с делом: «А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на язычничестве выезжают, а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а не бреши.<…> эх, язычники! фарисеи проклятые! <…> Таким разве поверят! <…> Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй».
Золотой фонд русской литературы востребован за рубежом, а в России упрятан на задворки. В то же время не один десяток лет с попустительства и дозволения правящего режима во всех регионах людей массово одурманивают, зомбируют, оглупляют душепагубной информацией, потоки которой извергаются словесными нечистотами из огромного количества продажных и подконтрольных СМИ, жёлтой прессы, бульварного массового чтива, «зомбоящика» и т.п.
Былой атеизм коммунистов ныне сменился сатанизмом кланово-олигархического капитализма, который разделяет людей на страты, прикрываясь фальшивым лозунгом о единстве и легендой о демократии. Политика «прозрачности» на деле обернулась «тайной беззакония». На страждущую Россию накинута плотная завеса, под которой задыхается всё честное и свободное. Лукавство и ложь продажных, коррумпированных, бездарных чиновников возводятся в ранг обязательных правил поведения с народом, а подчас принимают формы нормативных правовых актов, которые наскоро стряпают фарисействующие «законники разноглагольного закона» (по точному выражению Лескова), вместо того, чтобы свято исполнять законы Христа, «Который дал нам глаголы вечной жизни». Господь в праведном гневе обличает и предостерегает угнетателей народа, не обременяющих самих себя теми путами и ограничениями, которые эти горе-законники накладывают на других: «Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. <…> и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11: 42–46).
Известный итальянский адвокат-юрист и учёный-славист Пьеро Каццола (1921–2015), знаток русской культуры, переводчик творчества Лескова и других русских писателей (в октябре этого года профессору исполнилось бы 100 лет), проводил аналогию между сицилийской и российской мафией – этим чудовищным спрутом в переплетении его гигантских смертоносных щупалец – финансовых, чиновно-коррумпированных, коммерческих, криминальных.
Как ни парадоксально, но русской классической литературе сегодня как никогда требуются защитники, «адвокаты», чтобы отстаивать само её право на существование в современной России, где нивелируется и вытравливается всё русское, безбожно попираются традиционные духовно-нравственные ценности, Божие вытесняется кесаревым. Самое главное в русской литературе – Христос, христианская вера, одухотворённая русским православным подвижничеством. Художественной правды не может быть без правды Божьей.
Неслучайно святой апостол призывал: «не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4: 1). Русские писатели-классики были истинными пророками. Но, видимо, настолько безмерно щедра наша земля на таланты первой величины, что вошло в привычку не замечать и не ценить их. В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью признавал библейскую истину о судьбе пророков: «В России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка, которому нет чести в отечестве своём».
Тургеневу, как и его выдающимся современникам – великим русским писателям, в его эпоху тяжело было выносить гримасы «суетливого и суетного» капиталистического времени – «банковского периода». До такой степени, что в год своего 60-летия писатель объявил о намерении оставить литературную деятельность, «положить перо» и никогда более за него не браться. К счастью, этого своего намерения писатель не исполнил.
Как говорил Лесков, прибегая к евангельской образности, «литература у нас есть соль», и нельзя допустить, чтобы она «рассолилась», иначе «чем сделаешь её солёною» (Мф. 5:13)?
«Не можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16: 13), – говорит Христос. Тургенев, Лесков, Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, как и вся русская классическая литература, неустанно разоблачали псевдоблагодетелей народа. «Чёртовы куклы» (130 лет со дня написания) – так именовал чиновников-марионеток Лесков. О напускной значительности высокопоставленных чиновных персон – важных с виду, а по сути никчёмных, непригодных к живому делу, к самоотверженному служению Отечеству (уместно вспомнить поэтические строки «Колыбельной песни» (1845) Некрасова: «Будешь ты чиновник с виду / И подлец душой»), – Тургенев высказался в романе «Новь» (1876) (роману в этом году – 145 лет): «У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос; и только самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно и то же время». Лесков подхватил и продолжил столь выразительную характеристику «крупносановных» людей, по долгу службы призванных заботиться о благе страны, а на деле составляющих «несчастье России»: в тургеневском «последнем романе: это или денежные глупцы, или проходимцы, которые, добившись генеральства на военной службе, “хрипят”, а по штатской – “гундосят”. Это люди, с которыми никому ни до чего нельзя договориться, ибо они не хотят и не умеют говорить, а хотят или “хрипеть”, или “гундосить”. В этом скука и несчастье России». Поистине универсальный портрет «крапивного семени», ненавистного русскому народу, – неистребимой чиновной бюрократии. Писатель обнажает её низменные зоологические черты: «надо начать по-человечески думать и по-человечески говорить, а не хрюкать на два давно всем надоевшие и раздражающие тона».
Созвездие литературных юбилеев, приходящихся на 2021 год, скорее всего останется мало замеченным, второстепенным или вовсе ненужным. Немеркнущий свет русской классики, уходящей корнями в христианство, в Святое Евангелие, принадлежит горизонту вечности. Но в сиюминутном бытии для большинства людей, намеренно погружённых властями предержащими в кабальный круговорот нескончаемых забот об элементарном выживании, о хлебе насущном, не востребован хлеб духовный, о котором благовествовал Христос: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Ин. 6: 27); «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6: 35); «Я хлеб живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6: 51).
Итак, уповать остаётся только на Бога. Вот почему святой апостол Павел призывает: «братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 10–12). Как замечал раннехристианский духовный писатель Тертуллиан, бессмертная «душа человеческая – по природе христианка». И она выстоит, победит, несмотря на явный разгул бесовщины в нынешней закабалённой России.
В начале XIX в. продолжалось культурное сближение России с Западной Европой, но в этом процессе участвовали лишь высшие классы общества.
Жизнь и быт дворянской семьи
Жизнь дворянской семьи имела свои особенности. Со времен Петра I структура и взаимоотношения в дворянской семье строились на идеологии, связавшей службу и достоинство. Во главе семейной иерархии стоял отец, который отвечал за представительство семьи в обществе и общества в семье. Согласно этикету он держался в отдалении, имел в доме отдельные помещения. В литературных произведениях этого времени показано, с каким трепетом дети тайно проникали в кабинет отца, который даже в зрелом возрасте оставался им недоступным. В обязанности главы семьи входили устройство браков потомства и карьеры сыновей. Отношение к детям в дворянской семье было строгим. Высокий уровень требовательности к ребенку объяснялся тем, что его воспитание строилось в рамках дворянского кодекса чести.
Семья могла состоять из родственников по кровному и по свойскому родству. В ее состав нередко включались домочадцы, (люди, жившие под единой крышей) за исключением слуг и крепостных.
В. А. Тропинин. Семейный портрет графов Морковых
В семье существовало четкое разграничение по гендерному признаку. Ведение дома считалось специфической женской обязанностью, дела вне дома $-$ мужской. Половые различия проявлялись в социальной деятельности: согласно этикету мужчины встречались вечером, а женщины навещали друг друга днем. Пол учителя всегда соответствовал полу ребенка. Вдовец мог воспитывать только сына, но дочь он обязан был отдать на воспитание родственницы.
Пушкин с дядькой
По причине высокой детской смертности детство до 7 лет считалось временем чисто биологического существования. Уход за ребенком до этого возраста доверялся няне. С 7-летнего возраста ребенок рассматривался как маленький взрослый, так как считалось, что у него появлялся разум. Обучение и воспитание мальчиков ориентировалось на служение Отечеству. В девочке воспитывалось умение жертвовать собой в качестве жены и матери. После 7 лет для ребенка стандартом поведения становилось поведение взрослых. Дети могли присутствовать и принимать участие в разговорах взрослых, читать их книги.
К. Гампельн. Портрет братьев Коновницыных
Девочка с 7 лет попадала под опеку матери, которая до ее замужества несла за нее полную ответственность. Образование и нравственное воспитание девочек было возложено на гувернанток. В свет девушки впервые выходили потенциальными невестами. Поскольку брак в основном составлялся главой семьи, его преимущество заключалось в том, что девушка вырывалась из-под материнской опеки.
В браке задачей супруги было служение мужу. Юридически супруги были достаточно независимы. Общего имущества не существовало, супруги не наследовали друг другу. В обществе они имели разный круг знакомств, вели независимый образ жизни и воспринимались как самостоятельные личности.
Самой важной ролью женщины являлось материнство. Однако после рождения ребенка забота о нем передоверялась кормилице и няне. Матери не надлежало кормить ребенка. Мальчика до 7 лет воспитывала няня, мать оставляла за собой общий надзор.
Из документа (А. С. Пушкин. Няне):
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе…
Судьба Евгения хранила:
Сперва Мадам за ним ходила,
Потом Мосье ее сменил;
Ребенок был резов, но мил.
Пушкин в Михайловском с няней Ариной Родионовной
Отец занимался подбором для сына дядьки и учителя, позже отвечал за выбор его карьеры. Близкой связи между отцом и сыном не было. Отец оставался недосягаемым, его решения не оспаривались. Часто для ребенка самым близким человеком в семье являлся дядя.
Из документа (Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его. Записки дочери):
Родители вели нас так, что не только не наказывали, даже и не бранили, но воля их всегда была для нас священна. Отец наш не любил, чтобы дети ссорились, и, когда услышит между нами какой-нибудь спор, то, не отвлекаясь от своего занятия, скажет только: «Le plus sage sede» (Самый умный уступает) $-$ и у нас все умолкнет.
Обучением ребенка занимался воспитатель, в круг обязанностей которого входило также воспитание манер, стереотипов поведения. Учитель всюду сопровождал воспитанника. Однако эмоционально близких отношений с учителем, как правило, не возникало, так как учитель в семейной иерархии занимал положение слуги.
Р. Редгрейв. Гувернантка
Из документа (В. А. Сологуб. Большой свет):
Едва летом, на даче, могу подышать свободно и весело, да и тут мешает мне теперь мадам Поинт: все ходит за мной и говорит: «Держи спину прямо. Не говори громко. Не ходите скоро. Не ходите тихо. Опускайте глаза…». Да к чему это?.. Хоть бы поскорее быть совсем большой!
В основе дворянской идеологии лежало убеждение, что высокое положение дворянина в обществе обязывает его являться образцом высоких нравственных качеств: «Кому много дано, с того много и спросится». Ребенка ориентировали не на успех, а на идеал. Как дворянин он обязан был быть храбрым, честным, образованным.
Храбрость вырабатывалась путем волевых усилий и тренировок. Мальчик 10–12 лет должен был ездить верхом наравне со взрослыми. Для выработки выносливости в Царскосельском лицее, где учился Пушкин, каждый день проводились «гимнастические упражнения»: лицеисты обучались верховой езде, фехтованию, плаванью и гребле. Они вставали в 7 утра, гуляли в любую погоду, ели простую пищу.
Отношение к внешности и одежде имело эстетический характер. Отточенные остроты и полированные ногти, изысканные комплименты и тщательно уложенные волосы дополняли друг друга. Согласно правилам хорошего тона. даже самый дорогой и изысканный наряд выглядел просто.
Если девушка после замужества автоматически становилась взрослой, то юношу делали взрослым и независимым учеба или служба в армии. Здесь юноша впервые оказывался в обществе равных ему по положению и возрасту людей. Вопрос о карьере и браке решался отцом. После брака мужчина, как правило, оставлял службу. Брак по любви был редок. Последней ступенью в обретении мужчиной статуса главы семьи и слуги общества являлась смерть отца.
По мере сближения России с Европой происходят изменения во взаимоотношениях и структуре дворянской семьи. Семья, как и на Западе, начинает рассматриваться как место особой чистоты и морального убежища человека от общества.
Неизвестный художник. Портрет Е. И. Новосильцевой с детьми
Дворянство проводило дни не только на службе, но и в постоянном общении. В домах столичной знати ежедневно обед накрывался на 100 человек. А бал или званый вечер мог обойтись хозяину в значительную сумму. Городские дома знати напоминали дворцы: они строились преимущественно из камня, украшались колоннами, скульптурами, лепными барельефами.
Г. Г. Гагарин. Бал у княгини М. Ф. Барятинской. 2-я пол. 1830-х гг.
Традиционно в начале лета помещики переезжали в загородные дворцы и дома. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже часть осени, они возвращались в города в ноябре. Тогда и начиналась городская светская жизнь с балами, маскарадами, театральными премьерами.
В первой половине XIX в. дворянские усадьбы представляли собой настоящие культурные центры. Они воплощали мечту хозяев о создании собственного мира с особыми традициями, обрядами, моралью, специфическим типом ведения хозяйства, расписанием будней и праздников. Основные события в жизни дворянина были связаны с усадьбой, поэтому ее устройство продумывалось до мелочей. В усадебном строительстве в этот период доминировал классицизм. Нередко в усадьбе были театр, библиотека, храм, школы для крепостных, оркестр. Центральное положение в барском доме занимал парадный зал, где проходили балы и приемы.
Усадьба Юсуповых в Архангельском
Основным был второй этаж, где располагались светлые помещения, богато украшенные мебелью, картинами, скульптурами. Комнаты были проходными, последовательно примыкали друг к другу. К середине века в новых постройках все основные комнаты выходили в коридор. Служебные помещения находились на нижнем этаже. Освещались огромные залы и гостиные люстрами, канделябрами, жирандолями. Стены отделывались дорогими заграничными обоями. Использовалась традиционная посуда из золота и серебра и заграничная из дорогого саксонского или севрского фарфора. Популярны были восточная мебель, украшение залов коврами и оружием. Для работы над убранством помещений представители знати приглашали отечественных и зарубежных мастеров. Помимо парадных элементов (господского дома и парков) дворянские усадьбы имели экономические постройки: конные и скотные дворы, амбары, оранжереи и теплицы, которые строились в едином стиле с домом и парком. Практичные хозяева начали строить в усадьбах винокуренные, кирпичные, мыловаренные, суконные, стекольные, бумажные и другие предприятия. Старинными увлечениями дворян являлись охота и верховая езда.
Парк в усадьбе Юсуповых в Архангельском
Усадьба отражала душу хозяина и раскрывала особенности его личности. Она занимала особое место в становлении культурных традиций помещичьей России. Как природно-культурное пространство, созданное на века, усадьба стала символом дворянской семьи. В формировании ее поэтики внесли вклад А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, и особенно И. С. Тургенев (роман «Дворянское гнездо»).
С началом XIX в. произошли изменения в одежде дворян. Костюм становится европейским и светским, он выражает психологический облик человека. Эталоном гражданской одежды стали фрак, цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки, военной $-$ мундир. В женской моде преобладали «античные» туалеты: платья, сшитые из тонких тканей, с высокой талией, короткими рукавами и прямой юбкой с отделкой, окаймляющей подол. Важным дополнением туалета были шарфы и шали.
Рацион русской знати в середине XIX в. насчитывал более 300 различных блюд и напитков, в том числе блюд иностранных кухонь. Продуктами повседневного потребления стали кофе, восточные сладости, бисквиты, французские, немецкие, испанские вина.
В. Первунинский. В усадьбе
жизнь и быт крестьянской семьи
Культурная пропасть между высшими и низшими сословиями в России была огромной. Крестьяне, в отличие от дворян, оставались верны старым обычаям. В деревне преобладала традиционная русская культура.
Пасхальная открытка
Быт и жилища крестьянства в первой половине XIX в. сохраняли черты прошедших времен. Основным строительным материалом оставалось дерево, из которого строились избы крестьян. В основании жилища находилась подклеть, т. е. помещение для скота, орудий труда, многих вещей. Над подклетью («на горе») располагалась горница. У зажиточных крестьян над горницей находилась светлица $-$ светлая парадная комната. В зависимости от достатка хозяев дома были украшены резьбой. Вместо стекла в избах крестьян использовали бычий пузырь. В домах состоятельных селян были слюдяные окна.
Главное место в избе находилось возле печи. В красном углу висели дорогие для хозяев иконы. Основу убранства дома составляли табуретки и стулья. Возле печи хозяйка готовила пищу в глиняных горшках и для сохранения тепла ставила в печь. Около входной двери находилось рабочее место мужчин, где они шорничали, плели лапти, чинили орудия труда. Возле окон стоял ткацкий станок. Непременными спутниками прях зимними вечерами были светец и лучина. Спали крестьяне на печи или на полатях (дощатом настиле под потолком).
Главным продуктом питания был ржаной хлеб. Из проса, гороха, гречки, овса готовили каши и кисели. В рационе было много овощей: капусты, репы, свеклы, моркови, чеснока, огурцов, редьки, лука. Входил в употребление картофель. Мясо ели редко, обычно на праздники. Его недостаток восполнялся рыбой. Среди напитков популярны были свекольный квас, пиво, сбитень, наливки и настойки. В первой половине XIX в. широкое распространение получил чай.
И. А. Ерменев. Обед (Крестьяне за обедом)
Крестьяне носили рубахи и штаны. По мере развития ткацкого производства домотканое сукно для верхней одежды (зипунов, сермяг) заменялось на фабричные ткани. Зимой носили овчинные шубы и полушубки, длинные тулупы, подпоясанные кушаками. Шапки («грешневики») изготавливались ремесленниками. Главным видом обуви крестьян были лыковые лапти, которые носили с суконными или холстинными онучами, привязанными тесьмой. На праздники мужчины обували кожаные сапоги, женщины $-$ «коты» (тяжелые кожаные галоши). Зимой носили валенки.
Важную роль в жизни крестьян играли праздники, связанные с культурной и религиозной традицией. Накануне Рождества и до Крещения гадали. Главным обрядом на Крещение был крестный ход к проруби за святой водой. Первым весенним праздником являлась Масленица, перед Великим постом употребляли вкусную и жирную пищу, пекли блины. Любимой забавой населения в эти дни было катание с гор на санках, салазках, бревнах. На Пасху играли в бабки, лапту, катались на качелях. На Троицу гуляли в лугах и лесах, на праздник Ивана Купалы купались в реках и собирали целебные травы.
В. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе
Крестьянская семья объединяла представителей двух поколений $-$ родителей и их детей. Детей, как правило, было много. Основными семейными обрядами являлись крещение, свадьба, похороны. В брак юноши обычно вступали в возрасте 24–25 лет, девушки $-$ в возрасте 18–22 лет. Законным считался брак, заключенный при церковном венчании. После женитьбы сына родители и близкие родственники помогали ему построить собственный дом. Выдавая дочь замуж, родители передавали мужу приданое. В его составе помимо прочего были вещи, сшитые девушкой до свадьбы.
А. П. Рябушкин. Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии
жизнь и быт горожан
В первой половине XIX в. наблюдается индустриальный рост Петербурга, Риги, Москвы, Харькова, Екатеринослава. Рост населения городов в 2–2,5 раза превышает общий рост населения империи. Постепенно изменяется облик городов. Их улицы, в особенности сгоревшей в 1812 г. Москвы, застраивались большими каменными домами.
Москва. Никольская улица
С развитием городской торговли и транспорта стремительно сокращается площадь индивидуальных хозяйственных построек: хлевов, сараев, бань. Улицы становятся более оживленными. У жителей Петербурга популярными местами отдыха были Сенная площадь, Царицын луг, Екатерингоф. Открываются трактиры, чайные, буфеты для тех, кто не мог обедать дома.
В. Первунинский. Утро в Нескучном саду
Летние гулянья москвичей проходили по главным московским улицам, вокруг Кремля, в Сокольниках и в Марьиной роще, а также в Царицыно, Кунцево, Кусково, на Воробьевых горах, в Кузьминках, Останкино, Коломенском, Архангельском, которые тогда являлись окрестностями города. Зимой горожане гуляли в Кремлевском саду, на Тверском бульваре, по набережной Москвы-реки и Новинскому Валу. Летом в гуляньях участвовали в основном купцы и прочий городской люд, дворяне же уезжали в свои имения за пределами Москвы. В садах или парках играла полковая музыка, пели и плясали цыгане, жители города катались в лодках.
К середине XIX в. большинство российских городов трансформировалось из аграрно-административных в ремесленно-промышленные и торговые центры. В городах осуществлялся переход от составной семьи к малой, от абсолютизма к демократизму во внутрисемейных отношениях, происходила рационализация социальных отношений.
Основная масса купечества в первой половине XIX в. придерживалась традиционного уклада жизни и методов ведения дел. В домах сохранялась строгая субординация согласно «Домострою». Купцы были наиболее религиозной частью городского населения. Добрым делом в купеческой среде считалась благотворительность. Местом жительства купцов в Москве являлось в основном Замоскворечье. Дома купцов строились из камня. В первой половине XIX в. в большинстве купеческих домов парадные комнаты оформлялись богато, но не всегда со вкусом. Потолки расписывались райскими птицами, сиренами, купидонами. Из мебели обязательными были диваны. В парадных комнатах хозяева вешали свои портреты и портреты предков, в стеклянных шкафах стояли красивые и дорогие безделушки.
В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом
Купеческая среда стала одной из хранительниц русской кулинарной культуры. Рецепты были традиционными, блюда состояли из простых ингредиентов. Известна купеческая любовь к чаю и чаепитиям.
Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем
В первой половине XIX в. старшее поколение купцов ходило в «русском платье», а младшее носило европейскую одежду. Одежда купчих имела традиционные и привнесенные из Европы черты. «Золотая купеческая молодежь» одевалась по французской моде.
Б. М. Кустодиев. Купец с купчихой
На досуге купцы со своими семьями посещали театр, гостей, гулянья, ярмарки. Причем ярмарка была традиционным местом развлечения, а театры только входили в моду у купцов.
Жизнь рабочего люда была тяжелой. Рабочие первых фабрик и заводов жили в многоэтажных казармах, сырых, полутемных, с дощатыми нарами, кишевшими насекомыми. Отсутствие чистой воды, недостаток света и воздуха губительно сказывались на организме. Смертность в их среде в два раза превышала среднюю по стране.
Внутренний вид казармы для фабричных рабочих Казарма для семейных рабочих
Стол рабочих был беден, в основном каши и хлеб. Единственным доступным для рабочих развлечением было посещение кабака или трактира.
Таким образом, в процессе культурного сближения России с Европой участвовали лишь высшие классы общества. Пропасть между «
высокой» культурой аристократии и знатного купечества и традиционной культурой низших сословий сохранялась.
10 июля 2013, 10:11
Русское крестьянство, русская деревня — это самая большая потеря России за двадцатый век. Как класс, как слой населения страны, носитель уникальной культуры, русский крестьянин исчез, исчезла и русская деревня.
На этой теме возникло много разнообразных спекуляции и мифов.
Вот один из них. Крестьяне до революции были поголовно нищими, босыми и голыми. Их нещадно обирали помещики, которые ради французской вазы вывозили хлеб пароходами на Запад, а народ голодал. Но если присмотреться по внимательней, то выясниться, что помещики, в России к семнадцатому году были не основными землевладельцами. Дворяне, с их любовью к прожиганию жизни, поместья свои теряли, продавали. Вспомнить хотя бы пьесу «Вишневый сад» Чехова. Там как раз наглядно всё это показано. Землю чаще всего скупали те, кого принято было называть кулаками, новая сельская буржуазия из разбогатевших крестьян. Вот эта прослойка и становилась основным землевладельцем в Российской Империи. Так же земля находилась в собственности крестьянской общины. Так что как-то сложно представить, что крестьян обирали помещики.
Миф второй. Если сейчас спросить любого — где же в то время крестьяне жили лучше чем в России? То все дружно укажут на Запад. Там и только там крестьяне, точнее фермеры, жили и живут очень зажиточно. А так ли это было?
Вообще, труд крестьянина в любой стране тяжелый, и не так что-бы высокооплачиваемый. Поэтому любопытно сравнить, с помощью фото, жизнь русских крестьян и их иностранных коллег.
Вот немецкие крестьяне конца девятнадцатого века:
А вот русские начала 20 века.
А вот американские фермеры убирают урожай, тоже начало 20 века.
Г-жа Бизи и ее семья (польские эммигранты). Все они работают в полях вблизи Балтимора. Балтимор, штат Мэриленд. Июль 1909:
А вот польские крестьянки убирают урожай, 1925 г.
Ирландские крестьяне у своего дома:
Ирландские селянки, 1913 год:
Польские крестьянки на рынке в Кракове:
Дом немецких крестьян. Покрытая соломой крыша говорит по всей видимости о богатстве владельца:
Дом по-богаче. Тоже Германия:
Типичный вид испанской провинции в начале 20 века:
А вот так жили фермеры в Ирландии в начале двадцатого века:
Жители польского местечка Lowicz нарядились на воскресную службу в церковь, но всё внимание на дом:
Австрийское местечко Wagrain, 1929
Литовское село, конец 19 в.(Литва тогда входила в состав Российской империи)
А вот это уже Россия. Конец девятнадцатого века.
Фото современное, но дом как раз начала двадцатого века в России.
А вот то, что нельзя увидеть заграницей. Такое делают только русские:
Типичная крестьянская изба в новгородском музее деревянного зодчества под открытым небе в селе Витославицы:
Предметы крестьянского быта:
Интерьер крестьянской избы начала 20 века:
А это уже Норвегия. Типичное жильё норвежского фермера из этнографического музея под открытым небом. Такие вот простые милые избушки без излишеств:
и внутреннее убранство:
Фотография норвежской деревни, датированная 1910 годом:
А это крайний Запад Украины, хотя, быть может, и нынешняя юго-восточная окраина Польши, 1920 г.
Ну а американские «богатые» фермеры жили приблизительно так:
Вся семья за работой:
Часто признаком бедности русской деревни считают отсутствие обуви в летний период у крестьян. Что не совсем правда.
А если присмотреться к обуви фермеров?
Фермерские дети. Англия двадцатые годы:
Русские босоногие дети. Фото Прокудина-Горского, 1909 год:
Девочки в повседневной одежде. Ярославская губ. д. Овинчищи 1915 г:
Объяснение этому простое. Конечно были и бедные, которые себе обуви позволить не могли, но кроссовок и кед тогда не было. Обувь была кожаная, дубовая. Для эксперимента, оденьте такие туфли, и походите по пересеченной местности летом недельку. Посмотрите, что будет с ногами и обувью. Для полноты эксперимента перейдите пашню поперёк борозды пару раз. Сразу поймете — почему в те дремучие времена летом ходили босиком.
Дети тогда работали везде и начиная с трёхлетнего возраста уже пытались прокормить самих себя и помочь семье.
Роза Байодо, 10 лет. Батрачит здесь уже 3-е лето. Белые Болота, Браунс Милл, Нью-Джерси. 28 сентября 1910:
Семья Арнао. Вся семья работает. Джо 3 года. Мальчику 6 лет, девочке 9 лет. Кэннон, штат Делавэр, США, 28 мая 1910 года:
Ещё одна семья собирает ягоды, США
Мальчик собирает хлопок, Оклахома, США, 1916 год
Июль 1915 года. На сборе урожая сахарной свеклы в возде Шугар-Сити, Колорадо: 6-летняя Мэри, 8-летняя Люси и 10-летняя Итан.
Сбор сахарной свеклы в Висконсине, июль 1915 года:
А это уже русские дети. Рязанская губ., 1913 год
Девочки кружевницы за плетением узоров. Московская губ. село Куликово 1913 г.
И в заключении поста представители разных народов Европы, а также русские крестьяне в национальных костюмах и в праздничной одежде. Фотографии также хорошо отражают быт того времени:
Россия, конец 19 века.
Земля Баден, Германия, начало 20 века
Там же
Молодая ирландка в старинном костюме, деревня (Кладда) в графстве Голуэй (Galway), 26 мая 1913 г
Ещё одна ирландка, 20-е годы 20 века


Норвежка, 1913 год
Испанка в национальном костюме
Голландцы, 1910 год
Вендская женщина (т.е. лужицкая сербка) в традиционном наряде, Германия
Группа польских крестьян на повозке.
Молодая польская селянка нарядилась на воскресную службы в церковь
Украинская селянка, 1909 год
Бретонская пара в традиционной одежде, Франция, 1920 г.
Сёстры из Эльзаса, Франция, 1918 г.
Русские женщины в традиционной одежде, между 1908 и 1917 г.
И еще немного фотографий русской деревни и быта конца девятнадцатого, начала двадцатого века:
Масленица в Енисейской губернии
Крестьяне Костромской губернии, 1907 год
Молодая крестьянка в будничной одежде. Вологодская губ. д. Усть Топса 1911 г.
Зажиточный крестьянин в повседневной одежде. Московская губ. с. Куликово 1913 г.
Старик и старуха. Рязанская губ., Касимовский у. 1910
Сестры в праздничной одежде. Ярославская губ. д. Овинчищи 1915 г.
Молодая крестьянка в праздничном костюме. Костромская губ. г. Галич 1907 г.
Отец с сыном перед охотой. Вятская губ. 1907 г.
Украинская переселенка, Енисейская губерния, 1910 г.
Перевоз приданого невесты в дом жениха. Владимирская губ. 1914
Бабушка с колыбелью внука, 1914
Крестьянка мнёт лён, Пермская губ., 1910 год
Девушка с земляникой, 1909 год.
Отключен JavaScript
У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.
- Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8
Оффлайн
ingrem
Добрый день други.
Вчера, гуляя по старинной деревне пришла в голову мысль. А почему на старых урочищах так мало попадается сопутки. Из находок монеты,крестики,редко иконки,еще реже плашки и складни.
А где же все вещи которые использовали в обиходе крестьяне?.
Залез в интернет и нашел очень интересную статью про крестьянский быт.
Она в принципе отвечает на мой вопрос. Сразу говорю что букв многовато, но прочитать ее стоит.
В. Б. Безгин. Традиции крестьянского быта конца XIX – начала XX века.
Познание исторической действительности жизни русской деревни рубежа XIX — XX веков невозможно без реконструкции крестьянского быта. В крестьянской повседневности находили свое зримое воплощение, как традиционный сельский уклад, так и перемены, которые были вызваны к жизни хозяйственным и культурным развитием страны. Содержание бытовой культуры русского села, может быть исследовано посредством анализа его материальных компонентов: пищи, жилища и одежды. В условиях потребительского характера крестьянского хозяйства бытовые условия сельской семьи адекватно отражали уровень ее благосостояния. Разрушение привычной замкнутости сельского мира, в результате процесса модернизации, вело к появлению новаций и в такой консервативной сфере как деревенский быт. Цель данной статьи и состоит в том, чтобы на примере крестьянства Европейской части России установить повседневный рацион крестьянина, выяснить обыденные жилищные условия сельской семьи и определить вид традиционной деревенской одежды. Задача настоящего исследования заключается в выяснении сути перемен, произошедших в крестьянском быту на протяжении изучаемого периода.
Пища
В условиях натурального, потребительского характера крестьянского хозяйства пища являлась результатом производственной деятельности земледельца. Традиционно крестьянин кормился от трудов своих. Народная пословица гласит: «Что потопаешь, то и полопаешь». Состав крестьянской пищи определялся выращенными полевыми и огородными культурами. Покупные яства в деревне были редкостью. Пища отличалась простотой, еще ее называли грубой, так как требовала минимум времени на приготовление. Огромный объем работы по хозяйству не оставлял стряпухе времени на готовку разносолов и повседневная еда была однообразной. Только в праздничные дни, когда у хозяйки было достаточно времени, на столе появлялись иные блюда. Вообще, сельские женщины была консервативна в компонентах и приемах приготовления пищи. Отсутствие кулинарных экспериментов тоже являлось одной из черт бытовой традиции. Селяне были не притязательны в еде, и поэтому все рецепты для ее разнообразия воспринимали как излишество. В этом отношении характерно свидетельство Хлебниковой, работавшей в середине 20-х гг. ХХ в. сельским учителем в с. Сурава Тамбовского уезда. Она вспоминала: «Ели щи из одной капусты и суп из одной картошки. Пироги и блины пекли один — два раза в год по большим праздника … При этом крестьянки гордились своей бытовой неграмотностью. Предложение добавлять что-то в щи для «скусу», они с презрением отвергали: «Неча! Мои и так жрут, да похваливают. А, эдак совсем разбалуешь» .
На основе изученных этнографических источников можно с высокой долей вероятности реконструировать повседневный рацион русского крестьянина. Сельская пища состояла из традиционного перечня яств. Известная поговорка «Щи да каша — пища наша» верно отражала обыденного содержания еды жителей деревни. В Орловской губернии повседневную пищу как богатых, так и бедных крестьян составляло «варево» (щи) или суп. По скоромным дням эти кушанья заправляли свиным салом или «затолокой» (внутренним свиным жиром), по постным дням — конопляным маслом. В Петровский пост орловские крестьяне ели «муру» или тюрю из хлеба, воды и масла. Праздничная пища отличалась тем, что ее лучше приправляли, то же самое «варево» готовили с мясом, кашу на молоке, а в самые торжественные дни жарили картофель с мясом. В большие храмовые праздники крестьяне варили студень, холодец из ног и потрохов .
Мясо не являлось постоянным компонентом крестьянского рациона. По наблюдениям Н. Бржевского пища крестьян, в количественном и качественном отношении не удовлетворяла основные потребности организма. «Молоко, коровье масло, творог, мясо, — писал он, — словом все продукты, богатые белковыми веществами, появляются на крестьянском столе в исключительных случаях – на свадьбах, при разговении, в престольные праздники. Хроническое недоедание – обычное явление в крестьянской семье» . Бедный мужик вволю ел мясо исключительно только на «загвины» т. е. в день заговения. По свидетельству корреспондента Этнографического бюро из Орловской губернии к этому дню крестьянин, как бы ни был беден, обязательно готовил себе мясного и наедался, так что на следующий день лежал с расстройством желудка. Редко крестьяне позволяли себе пшеничные блины с салом или коровьим маслом . Такое эпизодическое обжорство было характерно для русских крестьян. Сторонние наблюдатели, не знакомые с жизнью деревни, удивлялись, когда в период мясоеда, забив барана, крестьянская семья в течение одного – двух дней столько мяса, сколько, при умеренном потреблении, хватило бы ей на всю неделю.
Другой редкостью на крестьянском столе был пшеничный хлеб. В «Статистическом очерке хозяйственного положения крестьян Орловской и Тульской губерний» (1902) М. Кашкаров отмечал, что «пшеничная мука никогда не встречается в обиходе крестьянина, разве лишь в привозимых из города гостинцах, в виде булок и т. п. На все вопросы о культуре пшеницы не раз слышал в ответ поговорку: «Белый хлеб — для белого тела» . Из злаковых культур, употребляемых крестьянами в пищу, безусловное первенство принадлежало ржи. Ржаной хлеб фактически и составлял основу крестьянского рациона. Для примера, в начале ХХ в. в селах Тамбовской губернии состав потребляемых хлебов распределялся следующим образом: мука ржаная – 81,2 %, мука пшеничная – 2,3 %, крупы – 16,3 %.
Из круп, употребляемых в пищу в Тамбовской губернии, наиболее распространено было просо. Из нее варили кашу «сливуху» или кулеш, когда в кашу добавляли свиное сало. Постные щи заправляли растительным маслом, а скоромные щи забеливали молоком или сметаной. Основными овощами, употребляемыми в пищу, здесь являлись капуста и картофель. Морковь, свеклу и другие корнеплоды до революции в селах Тамбовской губернии выращивали мало. Огурцы появились на огородах тамбовских крестьян лишь в советское время. Еще позже, в предвоенные годы, на приусадебных участках стали выращивать помидоры. Традиционно в деревнях культивировали и употребляли в пищу бобовые: горох, фасоль, чечевицу .
Из этнографического описания Обоянского уезда Курской губернии следовало, что в зимние посты местные крестьяне ели кислую капусту с квасом, луком, соленые огурцы с картофелем. Щи варили из кислой капусты и квашеных бураков. На завтрак обычно был кулеш или галушки из гречневого теста. Рыбу употребляли в разрешенные церковным уставом дни. В скоромные дни на столе появлялись щи с мясом, творог с молоком. Зажиточные крестьяне в праздничные дни могли позволить себе окрошку с мясом и яйцами, молочную кашу или лапшу, пшеничные блинцы и коржики из сдобного теста . Обилие праздничного стола находилось в прямой зависимости от имущественного достатка хозяев.
Рацион воронежских крестьян мало, чем отличался от питания сельского населения соседних черноземных губерний. Ежедневно употреблялась, преимущественно, пища постная. В ее состав входили ржаной хлеб, соль, щи из капусты, каша, горох и также овощи: редька, огурцы, картофель. Скоромная еда состояла из щей с салом, молока и яйц. В праздничные дни в воронежских деревнях употребляли в пищу солонину, ветчину, кур, гусей, овсяный кисель, ситный пирог .
Повседневным напитком у крестьян была вода, в летнюю пору готовили квас. В конце XIX в. в селах черноземного края чаепитие распространено не было, если чай и употребляли, то во время болезни, заваривая его в глиняном горшке в печи. Но уже в начале ХХ в. из деревни сообщали, что «крестьяне полюбили чай, который они пьют по праздникам и после обеда. Более состоятельные начали приобретать самовары и чайную посуду. Для интеллигентных гостей кладут вилки к обеду, сами мясо едят руками» . Уровень бытовой культуры сельского населения находился в прямой зависимости от степени общественного развития села.
Обыкновенно порядок еды у крестьян был таков: утром, когда все вставали то подкрепляются кто чем: хлебом с водой, печеным картофелем, вчерашними остатками. В девять — десять утра садились за стол и завтракали варевом и картошкой. Часов в 12, но не позже 2 дня все обедали, в полдник ели хлеб с солью. Ужинали в деревне часов в девять вечера, а зимой и раньше . Полевые работы требовали значительных физических усилий и крестьяне, в меру возможностей, старались употреблять более калорийную пищу. Священник В. Емельянов, на основе своих наблюдений за жизнью крестьян Бобровского уезда Воронежской губернии, сообщал в Русское географическое общество: «В страдную летнюю пору едят четыре раза. В завтрак в постные дни едят кулеш с одним ржаным хлебом, когда вырастает лук то с ним. В обед хлебают квас, добавляя в него огурцы, потом едят щи (шты), наконец крутую пшенную кашу. Если работают в поле, то весь день едят кулеш, запивая его квасом. В скоромные дни к обычному рациону добавляют сало или молоко. В праздник — студень, яйца, баранина в щах, курятина в лапше» .
Семейная трапеза в селе производилась по раз заведенному порядку. Вот как описывал П. Фомин, житель Брянского уезда Орловской губернии традиционный порядок приема пищи в крестьянской семье: «Когда садятся обедать и ужинать, то все по начину хозяина начинают молиться Богу, за тем уж садятся за стол. Вперед хозяина никто ни одно кушанье не может начинать. Иначе попадет ложкой по лбу, хотя это был и взрослый. Если семья большая, детей отсаживают на полок и там кормят. После еды опять все встают и молятся Богу» . Трапеза в крестьянской семье была общей, исключение составляли члены семьи, выполнявшие срочную работу или бывшие в отлучке.
Во второй половине XIX века наблюдалась довольно устойчивая традиция соблюдения пищевых ограничений в крестьянской среде. Обязательным элементом массового сознания были представления о чистой и нечистой пище. Корова, по мнению крестьян Орловской губернии, считалась чистым животным, а лошадь нечистым, непригодной в пищу . В крестьянских поверьях Тамбовской губернии содержалось представление о нечистой пище: рыбы, плывущие по течению, считали чистой, а против течения нечистой.
Обо всех этих запретах забывали, когда деревню посещал голод. В условиях отсутствия в крестьянских семьях какого-либо значительного запаса продовольствия каждый неурожай влек за собой сами тяжкие последствия. В голодное время потребление продуктов сельской семьей сокращалось до минимума. С цель физического выживания в селе резали скот, пускали в пищу семенной материал, распродавали инвентарь. В голодное время крестьяне употребляли в пищу хлеб из гречихи, ячменя или ржаной муки с мякиной. Помещик К. К. Арсеньев после поездки в голодные села Моршанского уезда Тамбовской губернии (1892 г.) так описывал свои впечатления в «Вестнике Европы»: «Во время голода семьи крестьян Сеничкина и Моргунова кормились щами из негодных листьев серой капусты, сильно приправленных солью. Это вызывало ужасную жажду, дети выпивали массу воды, пухли и умирали» . Спустя четверть века в деревне все те же страшные картины. В 1925 г. (голодный год!?) крестьянин из с. Екатеринино Ярославской волости Тамбовской губернии А. Ф. Барцев писал в «Крестьянскую газету»: «Люди рвут на лугах коневой щавель, парят его и эти питаются. … Крестьянские семьи начинают заболевать от голода. Особенно дети, которые пухлые, зеленые, лежат без движения и просят хлеба» . Периодический голод выработал в русской деревне приемы физического выживания. Вот зарисовки этой голодной повседневности. «В селе Московское Воронежского уезда в голодные годы (1919 — 1921 гг.) существующие пищевые запреты (не есть голубей, лошадей, зайцев) мало имели значение. Местное население употребляло в пищу мало – мальское подходящее растение, подорожник, не гнушались варить суп из лошадины, ели «сорочину и варанятину». Ни кошек, ни собак в пищу не употребляли. Горячие кушанья делали без картофеля, засыпали тертой свеклой, поджаренной рожью, добавляли лебеду. В голодные годы не ели хлеба без примесей, в качестве которых употребляли траву, лебеду, мякину, картофельную и свекольную ботву и другие суррогаты. К ним добавляли муки (просяной, овсяной, ячменной) в зависимости от достатка» .
Конечно, все описанное выше это ситуации экстремальные. Но и в благополучные годы недоедание, полуголодное существование было обыденным явлением. За период с 1883 по 1890 г. потребление хлеба в стране уменьшилось на 4,4. % или на 51 млн. пуд в год. Потребление пищевых продуктов в год (в переводе на зерно) на душу населения составляло в 1893 г.: в Орловской губернии – 10,6 — 12,7 пуд., Курской – 13 — 15 пуд., Воронежской и Тамбовской – 16 — 19 пуд . В начале ХХ в. по Европейской России среди крестьянского населения на одного едока в день приходилось 4500 кал., при чем 84,7 % из них были растительного происхождения, в т. ч. 62,9 % хлебных и только 15, 3 % калорий получали с пищей животного происхождения . При этом калорийность дневного потребления продуктов крестьянами в Тамбовской губернии составляла – 3277, а в Воронежской – 3247. Бюджетные исследования, проведенные в довоенные годы, зафиксировали очень низкий уровень потребления российского крестьянства. Для примера, потребление сахара сельскими жителями составляло менее фунта в месяц, а растительного масла – полфунта .
Если говорить не об абстрактных цифрах, а о состоянии внутридеревенского потребления продуктов, то следует признать, что качество пищи прямо зависело от хозяйственного достатка семьи. Так, по данным корреспондента Этнографического бюро потребление мяса в конце XIX в. бедной семьей составляло 20 фунтов, зажиточной – 1,5 пуда. На приобретение мяса в зажиточных семьях тратилось в 5 раз больше средств, чем в семьях бедняков . В результате обследования бюджетов 67 хозяйств Воронежской губернии (1893 г.) было установлено, что расходы на приобретение пищи, в группе зажиточных хозяйств, составляли в год 343 руб., или 30,5 % всех расходов. В семьях среднего достатка соответственно 198 руб. или 46,3 %. Эти семьи, в год на человека, потребляла 50 фунтов мяса, в то время как зажиточные в два раза больше – 101 фунт .
Дополнительные данные о культуре быта крестьянства дают данные о потреблении селянами основных продуктов питания в 1920 — е гг. Для примера взяты показатели тамбовской демографической статистики. Основой рациона сельской семьи по-прежнему являлись овощи и продукты растительного происхождения. В период 1921 — 1927 гг., они составляли в деревенском меню 90 – 95 %. Потребление мяса было незначительным: от 10 до 20 фунтов в год. Это объясняется традиционным для деревни самоограничением в потреблении продуктов животноводства и соблюдением религиозных постов. С экономическим укреплением крестьянских хозяйств возросла калорийность потребляемой пищи. Если в 1922 г. в дневном рационе тамбовского крестьянина она составляла 2250 единиц, то к 1926 г. увеличилась почти вдвое и исчислялась 4250 калориями. В том же году калорийность дневного потребления воронежского крестьянина составляла 4410 единиц . Качественного отличия в потреблении продуктов питания различными категориями деревни не наблюдалось.
Из вышеприведенного обзора потребления пищи крестьянами черноземных губерний можно сделать вывод о том, что основу повседневного рациона сельского жителя составляли продукты натурального производства, в нем преобладали продукты растительного происхождения. Достаток пищи носил сезонный характер. Относительно сытый период от Покрова до святок сменялся полуголодным существованием в весенне – летнюю пору. Состав употребляемой пищи находился в прямой зависимости от церковного календаря. Питание крестьянской семьи выступало отражением хозяйственной состоятельности двора. Отличие в пище зажиточных и бедных крестьян заключалось не ее в качестве, а в количестве. Анализ традиционного набора продуктов питания и уровень калорийности крестьянской пищи дает основание утверждать, что состояние сытости никогда не было характерно для сельских семей. Отчуждение произведенной продукции не являлось результатом ее избытка, а выступало следствием экономической необходимости.
Жилище
Изба являлась традиционным жилищем русского крестьянина. Постройка дома для крестьянина это важный этап в его жизни, непременный атрибут обретения им статуса домохозяина. Усадьба под новостройку отводилась решением сельского схода. Заготовка бревен и возведение сруба обычно осуществлялась посредством мирской или соседской помочи. В селах региона основным строительным материалом выступала древесина. Избы строили из круглых неотесанных бревен. Исключение составляли степные районы южных уездов Курской и Воронежской губерний. Здесь преобладали мазанные малороссийские хаты.
Состояние крестьянских жилищ, в полной мере, отражало материальное достаток их владельцев. Сенатор С. Мордвинов, посетивший Воронежскую губернию с ревизией в начале 1880-х гг., в своем отчете сообщал: «Крестьянские избы пришли в упадок, и поражают своим убогим видом. Каменных строений у крестьян губернии отмечено: у бывших помещичьих – 1,4 %, у государственных – 2,4 % . В конце XIX в. зажиточные крестьяне в деревнях стали чаще строить каменные дома. Обычно сельские дома крыли соломой, реже дранкой. По наблюдениям исследователей, в начале ХХ в. в воронежских селах строили «хаты» из кирпича и под «жесть» — вместо прежних «рубленных», крытых соломой на «глину». Исследователь Воронежского края Ф. Железнов, обследовавший условия жизни крестьян в начале 1920-х гг., составил следующую группировку крестьянских изб (по материалам стен): кирпичные строения составили 57 %, на деревянные приходилось 40 % и на смешанные 3 %. Состояние построек выглядело так: ветхие – 45 %, новые – 7 %, посредственные – 52 % .
Состояние крестьянской избы и надворных построек выступало верным показателем хозяйственного состояния крестьянской семьи. «Плохая изба и развалившийся двор – первый признак бедности, о том же свидетельствуют отсутствие скотины и мебели». По убранству жилища можно было безошибочно определить материальное положение жильцов. Корреспонденты Этнографического бюро так описывали внутреннюю обстановку домов бедных и зажиточных семей: «Обстановка семьи бедного крестьянина – это тесная ветхая лачужка вместо дома, да хлевишко, в котором есть одна лишь коровенка и три – четыре овцы. Бани, амбара и овина нет. У зажиточного всегда новая просторная изба, несколько теплых хлевов, в которых помещаются 2-3 лошади, три — четыре коровы, два – три теленка, два десятка овец, свиньи и куры. Есть баня и амбар» .
Русские крестьяне были весьма непритязательными в домашнем обиходе. Постороннего человека, прежде всего, поражал аскетизм внутреннего убранства. Крестьянская изба конца XIX в. мало, чем отличалась от сельского жилища века предыдущего. Большую часть комнаты занимала печь, служащая, как для обогрева, так и для приготовления пищи. Во многих семьях она заменяла баню. Большинство крестьянских изб топились «по-черному». В 1892 г. в с. Кобельке Богоявленской волости Тамбовской губернии из 533 дворов 442 отапливались «по-черному» и 91 «по белому» . В каждой избе был стол и лавки вдоль стен. Иная мебель практически отсутствовала. Не во всех семьях имелись скамейки и табуретки. Спали обычно зимой на печах, летом на полатьях. Чтобы было не так жестко, стелили солому, которую накрывали дерюгой. Как здесь не вспомнить слова воронежского поэта И. С. Никитина.
Невестка за свежей соломкой сходила,
На нарах в сторонке ее постлала, —
К стене в изголовье зипун положила.
Солома служили универсальным покрытием для пола в крестьянской избе. На нее члены семьи отправляли свои естественные надобности, и ее, по мере загрязнения, периодически меняли. О гигиене русские крестьяне имели смутное представление. По сведениям А. И. Шингарева, в начале ХХ в., бань в с. Моховатке имелось всего две на 36 семейств, а в соседнем Ново — Животинном одна на 10 семейств. Большинство крестьян мылись раз — два в месяц в избе, в лотках или просто на соломе . Традиция мытья в печи сохранялась в деревне вплоть до В. О. В. Орловская крестьянка, жительница села Ильинское М. П. Семкина (1919 г. р.) вспоминала: «Раньше купались дома, из ведерки, никакой бани не было. А старики в печку залезали. Мать выметет печь, соломку туда настелет, старики залезают, косточки греют» .
Постоянные работы по хозяйству и в поле практически не оставляли крестьянкам времени для поддержания чистоты в домах. В лучшем случае раз в день из избы выметали сор. Полы в домах мыли не чаще 2 — 3 в год, обычно к престольному празднику, Пасхе и Рождеству. Пасха в деревне традиционно являлся праздником, к которому сельские жители приводили свое жилище в порядок. «Почти каждый крестьянин, даже бедный, — писал сельский учитель, — перед Пасхой непременно зайдет в лавку купит 2 — 3 куска дешевеньких обоев и несколько картин. Перед этим тщательно вымывают потолок, и стены дома с мылом» .
Посуда была исключительно деревянной или глиняной. Деревянными были ложки, солонки, ведра, глиняными – крынки, миски. Металлических вещей было совсем мало: чугуны, в которых варили пищу, ухват для вытаскивания из печи чугунов, насаженный на деревянную палку, ножи. Освещались крестьянские избы лучиной. В конце XIX – начале XX века крестьяне, сначала зажиточные, стали приобретать керосиновые лампы со стеклом. Потом в крестьянских избах появились часики – ходики с гирями. Искусство пользоваться ими состояло в умении регулярно, примерно раз в сутки, подтягивать цепочку с гирей, и, главное, установить по солнышку стрелки так, чтобы они давали хотя бы примерную ориентировку во времени.
Участившие связи с городом, подъем материального состояние крестьян в период нэпа благотворно отразились на состоянии крестьянского жилица. По сведениям авторов сборника «Русские» во второй половине 20-х гг. ХХ в. во многих селениях было построено и отремонтировано около 20 — 30 % имеющихся домов. Новые дома составляли около трети всех построек в Никольской волости Курской губернии . В период нэпа дома зажиточных крестьян были перекрыты железными крышами, под ним подводился каменный фундамент. В богатых домах появлялась мебель, хорошая посуда. Входили в быт занавески на окнах, парадную комнату украшали живыми и искусственными цветами, фотографиями, на стены клеили обои. Однако эти изменения не коснулись бедняцких изб. Крестьянин В. Я. Сафронов, житель с. Краснополье Козловского уезда в своем письме за 1926 г., их состояние описал так: «Изба деревянная, гнилая. Окна на половину заткнуты соломой или тряпками. В избе темно и грязно …» .
Одежда
В одежде крестьян губерний центрального Черноземья сохранялись традиционные, архаические черты, сформировавшиеся в далекой древности, Но в ней отразились и новые явления характерные для периода развития капиталистических отношений. Мужская одежда была более или менее единообразной для всей территории, изучаемого региона. Женская одежда отличалась большим разнообразием, несла на себе отпечаток влияния на южнорусский костюм одежды этнических образований, в частности мордвы и малороссов, проживавших на данной территории.
Крестьянская одежда подразделялась на повседневную и праздничную. Преимущественно крестьянское платье было домотканым. Только часть зажиточная деревни позволяла покупать себе фабричные ткани. По сведения из Обоянского уезда Курской губернии в 1860 –е гг. мужчины в деревне носили посконное белье домашнего изготовления, рубаху с косым воротом, длиною до колен и порты. Рубаха подпоясывалась тканным или сученым пояском. В праздничные дни надевали льняные рубахи. Зажиточные крестьяне щеголяли в рубахах из красного ситца. Верхнюю одежду летом составляли зипуны или свиты. По праздникам носили домотканые балахоны. А крестьяне побогаче – кафтаны тонкого сукна .
Основу обыденной одежды тамбовских крестьянок составлял традиционный южнорусский костюм, испытывавший в конце XIX века значительное влияние городской моды. Как отмечают специалисты, в деревне изучаемого региона происходил процесс сокращения территории распространения поневы, замены ее сарафаном. Девушки и замужние бабы в Моршанском уезде Тамбовской губернии носили сарафаны. В ряде мест у селянок сохранилась клетчатая или полосатая «панёва», на головах «кокошники» и волосники с возвышениями или даже рогами. Привычная женская обувь «коты» (чоботы) уступили место башмакам или полусапожкам «со скрипом» .
Праздничная одежда крестьянок отличалась от будничной различными украшениями: вышивками, лентами, цветными головными платками. Ткани с орнаментом, который был оригинален для каждой местности, селянки изготовляли на домашних станках. В праздничную одежду наряжались не только по праздникам, на деревенские гуляния и посиделки, в церковь, при приеме гостей, но и на некоторые виды работ, сенокос.
Этнограф Ф. Поликарпов, исследовавший в начале ХХ в. быт крестьян Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, отмечал: «Появляются щеголи, надевшие «гасподские» рубахи – косоворотки из ситца, легкие сапоги, перестают носить на поясе «гаманы». Даже в пределах одного уезда этнографы обнаруживали разнообразие сельской одежды. «В одних местах носят «панёвы» — черные клетчатые юбки, в других «юпки» красных цветов, с широкой обшивкой у подола – из лент и позумента. Девушки носят преимущественно сарафаны. Из верхней одежды на юго-востоке Нижнедевицкого уезда носят «зипуники», а на северо-востоке уезда «шушпаны». Везде обувью являются лапти с «анучами» и «партянками». В праздничные дни одевают тяжелые и широкие сапоги с подковами. Крестьянские рубахи скроены неаккуратно – широкие и длинные, пояс подвязывали «пот пуза», цепляя на него «гаман» .
Новшеством в сельском моде являлся и материала, из которого было сделано платье. Ткань фабричного производства (шелк, сатин) практически вытеснила домотканое сукно. Под влиянием городской моды изменился крой крестьянского платья. Крестьянин С. Т. Семенов об изменениях в одежде крестьян начала ХХ в. писал, что «самотканки вытеснялись ситцем. Зипуны и кафтаны заменились кофтами и пиджаками» . Мужчины надевали поддевки, пиджаки, штаны не «набойчатые», а суконные и бумажные. Молодые люди ходили в пиджаках, подпоясывая брюки ремнями с пряжками. В прошлое уходили традиционные женские головные уборы. Сельские девушки ходили с непокрытой головой, украшая ее искусственными цветами, накидывая платок на плечи. Деревенские модницы носили приталенные кофточки, «польты», шубки. Обзавелись зонтиками и калошами. Последние стали «писком» деревенской моды. Их носили больше для украшения, т. к. надевали в тридцатиградусную жару, идя в церковь .
Крестьянский быт выступал не только показателем социально — экономических и культурных условий развития русского села, но и проявлением обыденной психологии его жителей. Традиционно в деревне большое внимание уделялось показной стороне жизни семьи. В деревне хорошо помнили, что «встречают по одежке». С этой целью зажиточные хозяева и в будние дни носили высокие сапоги с бесчисленными сборками («в гармошку»), и в теплую погоду накидывали на плечи синие тонкого фабричного сукна кафтаны . А, что не могли показать, о том говорили, что «дома у них на столе самовар и часы на стене, и едят они на тарелках мельхиоровыми ложками, запивая чаем из стеклянных стаканов». Крестьянин всегда стремился к тому, чтобы у него было все не хуже чем у соседа. Даже при небольших средствах свободные денежные средства вкладывались в строительство дома, покупку хорошей одежды, иногда мебели, в устройства праздника «на широкую ногу», чтобы в деревне создавалось впечатление о зажиточности хозяйство. Семейный достаток необходимо было демонстрировать повседневно, как подтверждение хозяйственного благополучия.
Список литературы:
Анфимов. А. М. Российская деревня в годы первой мировой войны. М., 1962.
Арсеньев К. К. Из недавней поездки в Тамбовскую губернию // Вестник Европы. Кн. 2. 1892.
Архив Русского географического общества. Раз. 19. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 9об.
Архив Российского этнографического музея. Ф. 7. Оп. 1.
Бржеский Н. Очерки аграрного быта крестьян. Земледельческий центр России и его оскудение. СПб., 1908.
Быт великорусских крестьян – землепашцев. Описание мат-лов этнограф. бюро кн. В. Тенишева. СПб., 1993.
Глава 36. Россия начала XX века
Государственное устройство. ? Экономическое положение и население России. ? Витте и модернизация России. ? Монархия — истинно российская форма власти. ? Оккультизм — отражение нравственного разложения общества. ? Образование и культура.
Государственное устройство
В начале XX в. Россия по-прежнему оказывала влияние на глобальные мировые события.
Высшим законодательным органом оставался Государственный совет. Министры, из которых состоял совет, назначались царем. Народ называл их «госсоветовскими старцами», потому что царедворцы и сановники, из которых состоял совет, были в преклонном возрасте. Все законы, выработанные Госсоветом, не имели силы без утверждения императором.
Министр имел трех заместителей, «товарищей». Суды осуществлялись от имени императора. Император же был последней и высшей инстанцией.
Император являлся и главой церкви, хотя непосредственно всеми церковными делами ведал Святейший Синод. До 1905 г. обер-прокурором Святейшего Синода был К.П. Победоносцев.
Административно Россия делилась на 78 губерний, 18 областей и Сахалин. В состав Российской империи входила еще Финляндия, имевшая внутреннюю автономию с собственным правительством, полицией и денежной системой. Губернии делились на уезды, а области на округа.
В России впервые свободным волеизъявлением в 1905 г. была избрана Государственная Дума. Россия, таким образом, становилась правовым государством. Судебная власть практически была отделена от исполнительной.
В годы правления Николая II было создано лучшее в мире рабочее законодательство с выбором рабочих старост, нормированием рабочего времени, компенсацией при несчастных случаях на производстве и обязательным страхованием рабочих от болезней, по инвалидности и по старости.
Но Россия оставалась похожей на огромную дворянскую вотчину, где высшая аристократия сохраняла привилегии и имела преимущество перед остальной частью населения. Это положение охранялось всей государственной системой. Традиции и привилегии немногих вызывали возмущение остальных.
Наступали тяжелые времена революционного террора. В это сложное время правительство Николая II возглавил Петр Аркадьевич Столыпин. Для того чтобы дать дорогу задуманным реформам, нужно было покончить с террористами. Столыпин учредил военно-полевые суды. Террористов вешали. Однако количество казненных было значительно меньше, чем количество губернаторов, генералов и жандармов, погибших от бомб террористов. При Столыпине в результате его земельной реформы всего за четыре года (1906 — 1911) в стране появилось изобилие продуктов, но и Столыпин не избежал внимания террористов. В августе 1911 г. на Столыпина было совершено покушение на его даче на Аптекарском острове. Террористы бросили бомбу, от которой погибло 20 человек, а раненых было до 30 человек. В этот раз Столыпин не пострадал. Террористов это не устроило, и в следующем месяце они довели свое черное дело до конца и убили Столыпина.
На памятнике великому реформатору написаны слова, обращенные к революционерам: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Из книги
автора
Воспоминания о старом Петербурге начала xx века
Двор пожарной команды То, о чем я хочу рассказать, связано с моими детскими воспоминаниями о жизни двора пожарной команды.В детстве я жил на углу Гороховой улицы (ныне ул. Дзержинского) и Загородного проспекта. Точнее, это был
Из книги
автора
Глава XII
Распространение кабаков с 1552 года до начала XVIII века
Мы видели, что около 1552 года во всём Московском царстве был один лишь большой царёв кабак, стоявший в Москве на Балчуге. Царь Фёдор будто бы велел сломать его и уничтожить, но это не помешало ему тотчас же по
Из книги
автора
О ювелирных модах начала XIX века
Со смертью «Семирамиды Севера» закончилось в России «царство юбок», а с трагической гибелью императора Павла I окончательно ушел в прошлое и безвозвратно минул «галантный», столь пышный и величественный «осьмнадцатый» век, век «нравных»
Из книги
автора
Русское искусство начала XX века
(Модерн)
Модерн (под различными названиями: «ар нуво» в Бельгии и Франции, «сецессион» в Австро-Венгрии, «югендштиль» в Германии, «стиль либерти» в Италии, «модерн стайл» в Великобритании, «стиль Тиффани» в США, «стиль модерн» в России)
Из книги
автора
Глава 5. Россия второй половины XV — первой половины XVI века
Единовластие российского правителя. ? Бездорожье России. Москва. ? Падение Новгородской республики. ? Суды и наказания. ? Торговля. ? Климат и дары природы. ? Жилище. ? Обычаи и нравы россиян. ? Обычаи знати и
Из книги
автора
Глава 8. Россия XVI века
Доходы Российского государства. ? Законы, суды и наказания. ? Наказание за взятки. ? Нравственный устав Собора 1551 г. ? Суеверие и набожность. ? Изобилие российской земли. ? Царские обеды и русское хлебосольство. ? Царские забавы. ? Русский мужчина. ?
Из книги
автора
Раздел II. Обычаи, быт и нравственное состояние Руси с начала XVIII до начала XX
Из книги
автора
Глава 22. Россия XVIII века
Засилие немцев в России в XVIII веке. ? Москва начала XVIII века. ? Армия XVIII века от Петра до Екатерины. ? Торговля. ? Церкви Вологды — украшение России. ? Российское изобилие. ? Поворот к пышности и изяществу. ? Перемена в генеалогии дворянства. ? Церковь и
Из книги
автора
Москва начала XVIII века
Де Невилль говорит, что в конце XVII в. в Москве насчитывалось около 500 тысяч жителей. О Москве начала XVIII в. иностранцы пишут, что в ней никогда не было так много каменных строений, как в это время. Она была обширна и продолжала строиться.Условно можно
Из книги
автора
Ярославские фрески начала XVIII века
В ярославских церквах XVIII в. сохранились удивительной красоты росписи, отличающиеся редкой мажорностью, декоративностью и народностью образов. Все они, в силу фольклорности образов и сюжетов, остаются замечательными источниками
Из книги
автора
Глава 22 Александр Койре о философии и национальной проблеме в России начала XIX века
Изгнанные или бежавшие из советской России философы оказались в Западной Европе. Разброс по странам оказался невероятным: тут и Чехословакия, и Югославия, и даже Болгария (Бицилли), и
Из книги
автора
Архитектурный текст Петербурга начала XX века
Новые коды, нашедшие себе применение в архитектурном тексте Петербурга начала века, были выработаны в рамках стиля модерн, а также ретроспективизма. Психологической доминантой многочисленных европейских архитекторов и их
Закирова А.А.
Введение
Актуальность темы. Коренные изменения, происходящие в нашей стране, породили противоречия между потребностью в позитивных социально-культурных преобразованиях в обществе и недостатком высокодуховных людей, готовых их осуществлять. Сегодня как никогда очевиден кризис духовно-нравственной жизни, корнями своими уходящий в прошлые столетия. И в настоящее время происходят быстрые и значительные социально-экономические и духовно-нравственные изменения в российском обществе и государстве. В такие времена увеличивается потребность в изучении переломных периодов отечественной истории.
Для восстановления более полной и глубокой исторической картины событий конца XIX начала XX веков необходимо изучение духовно-нравственного состояния русского общества поскольку, эти события имели не только социально-экономические, но и духовно-нравственные характеристики, ранее не достаточно проанализированные историками. Дополнение изученных исторических событий фактами более глубокого духовно-нравственного порядка сформировало особое направление данного исторического исследования, проблема которого является актуальной для современных историков, политологов, социологов и богословов.
В конце XIX — начале XX веков, несмотря на ускоряющееся индустриальное развитие, основным сословием в России оставалось крестьянство. Согласно переписи 1897 года, его численность составляла 84,1% от всего населения европейской России и 77,1% по империи в целом. В среднем материальное положение крестьянства улучшалось.
Объект исследования – организация быта в период времени конца XIX – начала XX века.
Предмет исследования – организация и бытовые условия русских рабочих.
Цель работы – изучить быт русских рабочих конца XIX – начала XX века.
Задачи реферативного исследования:
- Изучить бытовые условия и предметы быта русских рабочих;
- Ознакомится с общественно-бытовым укладом русского населения XIX- XXвв.
- Рассмотреть трудовые условия работы русского населения.
1. Быт русских рабочих конца XIX – начала XX века
1.1 Бытовые условия
В XIX веке крестьяне жили большими патриархальными семьями, которые начали распадаться только к концу века. Большие семьи, тяжелый разнообразный труд, суровый климат заставляли северян строить дома-комплексы, объединяющие жильё и хозяйственные постройки. На деревенских улицах обычно стояло по нескольку десятков монументальных домов, в каждом из которых жила одна крестьянская семья. Рядом с домами строились амбары; ближе к реке, озеру — бани; за околицей — риги с гумнами.
При строительстве дома все грубые работы делал любой мужик, владея топором, а для исполнения более тонкой работы приглашали мастеров. Огромный дом хорош снаружи, хотя почти не сохранил резных украшений, но особенно волнующе красив внутри. Живое, тёплое дерево, все с любовью сделано руками хозяина, продуманно, соразмерно, крупно.
Впереди жилая половина, сзади — хозяйственная, между ними сени. Дом получается длинным, жилая и хозяйственная половины — одной высоты. Основной этаж приподнят метра на два. Под жилой половиной — подполье, используемое как кладовая. Первые русские печи были без трубы, топились по-чёрному, и в нашем крае тоже. Была деревянная труба для выхода из избы дыма, который расстилался по всему потолку. С заселением Карелии новгородцами появились мастера-печники, имевшие опыт возведения печей в боярских теремах, которые топились по-белому, то есть дым из печи выходил в трубу. Жилая половина разделена русской печью, дверью и заборкой (шкафной перегородкой) на две самостоятельные части, что объясняет наличие двух красных углов.
1.2 Предметы быта
Посуда представлена средними и крупными сосудами, мисками, горшками, кринками круглодонной формы, изготовленными из хорошо отмученной глины с примесью песка, толчёного кварца. Обжиг сильный, но неровный. По-видимому, изделия обжигались в открытых кострищах.
Неотъемлемую часть быта составляла деревянная посуда. При её изготовлении мастера больше внимания уделяли форме вещи, а не её украшению. Массивные долблёно-резные ковши, различной величины чаши, миски, солонки, ложки — во всех этих изделиях ощущается стремление удачно подобрать пропорции, форму. Материалом служили сосна, ель, берёза, прочные берёзовые наросты — капы.
Значительную часть домашней утвари составляли изделия из бересты. Из неё делали туеса, корзинья, кошели, солоницы, бураки (корзины). Берестяные туеса — сосуды цилиндрической формы из цельного куска бересты для молока или воды служили до 25 лет. Домашняя утварь изготавливалась также из ивовых прутьев, луба. Лубяные короба, сита и т. п. делали из тонких кусков дерева (осины, липы). Из дерева же делали грабли, вальки, пяльца, детали ткацких станков, охотничьи лыжи.
Металлические изделия, в частности замки, кованые сундуки, имели эстетическую ценность, так как мастеровые придавали им изящную форму. Мастерство кузнеца передавалось из поколения в поколение, по родственной линии. Материалом железных изделий служила местная руда: болотная, озёрная, горная.
Разнообразны и красивы были орнаментированные расписными узорами хозяйственные и бытовые принадлежности. Они привлекли внимание ещё дореволюционных исследователей, отмечавших, что «любовь к живописи в деревне несомненна, нередко было встретить избу, в которой множество предметов домашней обстановки, шкафы, сундуки, двери разукрашивали любопытной живописью, странной, фантастической, но удовлетворяющей вкусам деревни». В наших деревнях заборки, двери, шкафчики были покрыты кистевой росписью, близкой к манере выгорецких мастерских. Характеризуя предметы быта, орудия труда, можно сказать, что все они являются произведениями народного искусства, хотя главным принципом была целесообразность изготовленных предметов, практичность, нужность.
2. Общественный быт русского города XIX — начала XX вв.
2.1 Культура народа
С 1890-х годов в русских городах распространяются и другие сословно-профессиональные клубы, объединяющие более широкие слои горожан. Были так называемые приказчичьи, или коммерческие, клубы, вокруг которых группировались служащие казенных учреждений и частных фирм, чиновники низших рангов, торговцы из мещан и часть купечества — средние слои горожан, ориентирующиеся в своих устремлениях на буржуазно-дворянскую верхушку. Здесь проводили свободные вечера, развлекались. Существовали клубы на небольшие членские взносы и добровольные пожертвования. Основной упор делался на благопристойность поведения, на соблюдение приличий и хорошие манеры.
Попыткой создать клубы для народа явилась организация в городах в начале XX в. Народных домов. Они отличались от сословно-профессиональных клубов открытостью и тем, что помимо развлечений (игры, танцы), в них силами местной демократической интеллигенции велась культурно-просветительная работа (устраивались спектакли, читались лекции, показывались «туманные картинки» (диапозитивы) на общеобразовательные темы). Посещали Народные дома рабочие, тянущиеся к просвещению. Такое же значение имели и воскресные школы, которые на общественных началах устраивали отдельные представители интеллигенции, чаще всего учителя. Школы посещали рабочие, ремесленники и все те, кто хотел получить или пополнить образование. В их составе преобладали молодые мужчины. Очень часто такие школы использовались политиками для революционной пропаганды.
Другим видом объединений в городах были различные общества по интересам, любительским или профессиональным (краеведческие, агрономические, коневодческие, спортивные и др.). Все они имели свой устав, кассу, иногда библиотеку. Общества врачей и краеведов на своих собраниях заслушивали сообщения на профессиональные темы, которые иногда издавались; сельскохозяйственные общества, состоявшие в основном из помещиков и крепких хозяев — крестьян с хуторов, — устраивали выставки плодов, продуктивного скота, лошадей. Имели распространение и любительские кружки — театральные, литературно-художественные. Вся эта сфера общественной деятельности не была обширна, однако имела широкий общественный резонанс, поскольку несла просвещение и культуру в массы горожан и населения ближайшей сельской округи.
Среди мелкого мещанства, ремесленников и мастеровых широко бытовали уличные игры. Играли дети, подростки и взрослые парни и девушки чуть ли не до свадьбы. Для этих игр было характерно заметное разделение на мужские и женские — мужские игры требовали от участников большей силы и ловкости. Парни играли в городки, в бабки, в чехарду, ходили на ходулях, запускали змея. В лапту тоже играли больше парни. Девушки бегали в догонялки, играли в камешки, бусины («верстки»). Молодые люди из «приличных» семей в уличных играх участия не принимали. Они забавлялись в своей среде при выезде за город или собравшись компанией знакомых и родственников в своем саду или во дворе. В ходу были кегли и мяч, реже — крокет, гольф; дети качались на качелях, гоняли обруч.
В зимнее время в городском саду заливали каток. По вечерам здесь зажигали фонари, иногда играл оркестр. Вход был платный. Молодежь каталась парами или небольшими группами. Любимое зимнее занятие молодежи из простых семей — катание с гор на салазках, скамеечках, ледянках. Такие развлечения шли с наступления зимы до таяния снегов.
В 1900-е годы начинают развиваться спортивные занятия: езда на велосипеде, игра в футбол. Это касалось более всего молодых людей из чиновников, служащих и коммерческого круга. Представителей офицерско-помещичьей среды более занимал конный спорт; впрочем, любоваться зрелищем конных состязаний, особенно бегов, любили все горожане. На бега собиралось множество народа разного звания и состояний.
Среди простонародья в мужских компаниях имели место различные состязания в силе и ловкости — например, в подъеме тяжестей на спор. Особое место занимала сохранившаяся с древности молодецкая забава — кулачные бои, устраивавшиеся с четверга масленичной недели до конца сентября-октября, включая период осенних ярмарок. Наибольшее распространение эта забава получила среди ремесленников, мелких торговцев, некоторой части рабочих, особенно в провинциальных городах.
На общественную жизнь села и города большое влияние оказывала церковь, для подавляющего большинства населения — православная. Религиозно-бытовой регламент, касавшийся самых различных сторон жизни, был своего рода законом общественного и личного поведения людей. Чередование труда и отдыха, формы и характер проведения досуга во многом определялись датами религиозного календаря, обязательного для всех. Выполнение религиозных предписаний в домашнем быту обусловливалось не только чувством верующего, «страхом Божиим», но и контролем семьи, особенно старшего поколения, следившего за соблюдением подобающего отношения к иконам, постам, молитвам и т.п. Каждый крестьянин и городской житель как член церковной общины принимал участие в общественных действиях, связанных с отправлением культа. Основу религиозно-общественной жизни составляли посещения церкви, прием священника с клиром, делающего обход своего прихода с молебствием раза 4 в год, большие крестные ходы, регулярные или эпизодические, обряды, связанные с важнейшими моментами в жизни людей. Само отправление культа являлось делом общественным.
Значительное место в жизни русского человека занимало регулярное посещение церкви. По субботам, воскресеньям и особенно в дни больших праздников в церковь отправлялись не только взрослые, но и дети. В большие посты полагалось говеть, исповедоваться и причащаться. За всем этим наблюдало и духовенство и само общество через те или иные группы, осуществлявшие социальный контроль (в городе — через отдельные социально-бытовые группы, в селе — через сельскую общину, с которой церковная община часто совпадала). Из тех, кто разделял атеистические взгляды или колебался в вере, лишь немногие могли себе позволить пренебрегать христианскими «обязанностями». Такое поведение осуждалось и в лучшем случае, если человек имел вес в обществе, квалифицировалось как чудачество. Само посещение церкви рассматривалось не только как религиозный, но и как светский акт, дававший возможность для общения. У обедни, вечерни, заутрени люди регулярно встречались друг с другом. Церковь давала возможность «видаться» родственникам, друзьям, знакомым. Разговаривали, узнавали новости, присматривали женихов и невест. Пребывание «на глазах» общества заставляло обращать особое внимание на свою одежду, манеры. Приходили задолго до службы и потом расходились не сразу. Церковная площадь в праздники становилась своеобразным центром общественной жизни. Здесь часто развертывалась и уличная торговля лакомствами, мелочами, детскими игрушками.
Много народу в дни больших религиозных праздников и престольных дней собиралось к многочисленным монастырям, к святым местам, к храмам с чудотворной иконой. Паломники прибывали не только из ближайшей округи, но и из дальних мест. Они располагались по трактирам, по крестьянским, мещанским домам и жили по нескольку дней. Здесь складывался свой специфический общественный быт, создавалась мистическая атмосфера.
Особое место в религиозной общественной жизни занимали большие крестные ходы, которые устанавливались по разным поводам, связанным с историей данной местности или всей страны (избавление от эпидемии, падежа скота, в честь победы в Отечественной войне 1812г.), или были эпизодическими (моление о дожде во время засухи). Процессии бывали длительные и многолюдные, в них принимало участие почти все население церковных приходов, и особенно охотно — простонародье. Крестный ход как религиозный и бытовой обряд сложился давно и со временем почти не менялся. В 1900-е годы в городах во время крестных ходов наблюдался своеобразный уличный быт с лоточной торговлей и некоторыми развлечениями.
Большую роль в жизни городского населения играли обряды и обычаи, приуроченные к датам христианского календаря. Еще в начале XX в. обрядовый календарь, содержащий многие напластования отдаленных времен, на большей части территории расселения русских сохранял свою традиционную специфику, хотя многие архаические обряды к тому времени ушли из жизни, а смысл других был забыт, и они, смешавшись с необрядовыми бытовыми формами, воспринимались как праздничная забава.
Общественная жизнь, связанная с народной календарной обрядностью, проявлялась главным образом в совместных гуляниях и праздничных развлечениях, имевших множество локальных различий. Рождественско-новогодний цикл обычаев и обрядов, связанных с зимним солнцеворотом и направленных на обеспечение плодородия и всяческого благополучия в наступающем году, назывался святками. Святки были самым оживленным и веселым временем года, особенно для молодежи. По неписанным законам, в обязанность молодежных групп (территориальных или социально-бытовых) входила организация и проведение рождественских и новогодних колядований, широко распространенных в России. Молодые люди веселой гурьбой обходили дома с пожеланиями хозяевам всяческого благополучия и получали за это вознаграждение, чаще всего съестными припасами. Утром на Новый год по домам ходили мальчики. Они поздравляли хозяев, исполняли праздничный тропарь и «засевали» — рассыпали семена. Детей обычно одаривали мелочью. Все, что колядовщики получали от хозяев, шло на устройство праздничных вечеринок и бесед, которые, как уже отмечалось, отличались особым разгулом и многолюдностью.
2.2 Трудовые условия для работы русского населения в конце XIX — начале XX веков
Чрезвычайно сложные и многоплановые проблемы объединены понятием «рабочий вопрос» в России. К ним относятся формирование рабочего класса, численность и структура, состав, условия труда и уровень жизни рабочих, правовое и политическое положение и др. С учетом исследовательских задач монографии, автором очерка поставлена триединая задача: исследовать взаимоотношения между правительством — предпринимателями — рабочими, ибо политика, проводимая государственной властью, была одним из существенных рычагов, регламентирующих отношения предпринимателей и рабочих (главным образом, через фабрично-заводское и трудовое законодательство). Социальная политика, осуществляемая владельцами предприятий, являлась не только регулятором их взаимоотношений с рабочими, но и важной сферой предпринимательской деятельности.
Власть, предприниматели и рабочие в 1860-1870-х гг. 60-70-е годы XIX века — начало больших перемен в стране. Это было и время интенсивного старта в попытках решения «рабочего вопроса». Падение крепостничества явилось одним из величайших событий в истории России XIX века. С реформой 1861 г. были связаны коренные изменения в политической и социально-экономической жизни страны. Одним из важнейших ее итогов было образование свободного рынка наемного труда людей, лишенных средств производства и живущих исключительно продажей своей рабочей силы. Система наемного труда стала основой развития народного хозяйства России. Быстрое развитие капитализма в пореформенный период умножало ряды наемных рабочих, превращало их в класс российского общества. Последнее было неразрывно связано и с промышленной революцией, происходившей в стране в 50-90-е годы XIX века.
В ходе промышленной революции в России была создана и утвердилась крупная машинная индустрия, и сложился новый социальный тип постоянных рабочих, концентрировавшийся на крупных предприятиях в ведущих промышленных центрах страны. Шло формирование рабочего класса, основу которого составляли постоянные рабочие, лишенные средств производства, разорвавшие связь с землей и собственным хозяйством и весь год трудившиеся на фабриках и заводах.
Однако уже к концу 1850-х годов в правительственных кругах среди наиболее либеральных их представителей зрело понимание того, что с освобождением крестьян уже нельзя сохранять прежние законы о рабочих, что необходимость разработки фабрично-заводского законодательства очевидна. С этого времени различными российскими ведомствами стали создаваться одна за другой особые комиссии. Первая из них была образована в 1859 г. в Петербурге при столичном генерал-губернаторе. В ее работе активное участие принимали петербургские предприниматели. На комиссию была возложена задача провести обследование фабрик и заводов Петербурга (и его уезда) — крупнейшего торгово-промышленного центра, где было сконцентрировано и наибольшее число рабочего населения.
Итогом работы комиссии стала подготовка «Проекта правил для фабрик и заводов в С.-Петербурге и уезде», регламентировавших условия труда рабочих и ответственность предпринимателей.
В 60-70-е годы XIX в. положение рабочих оставалось бесправным и характеризовалось жестокими формами труда. Зачастую на фабрично-заводских предприятиях действовали правила внутреннего распорядка, составленные самими владельцами и вводимые без всяких объяснений рабочим. В Московской губернии наиболее типичным был 12-часовой рабочий день, но на ряде предприятий он продолжался 14, 15, 16 часов и больше. На большинстве фабрик велико было число рабочих дней в году, а воскресные работы — обычным явлением. Рабочие подвергались крайнему произволу со стороны хозяев. Последние включали в рабочий договор такие пункты, которые лишали рабочего всякой свободы. Система штрафов была развита до виртуозности. Нередко размер штрафов совсем не определялся заранее. Штрафы с рабочих, взимавшиеся по самым разнообразным поводам и без повода, без указания причины, поступали в полное распоряжение предпринимателя. Они доходили иногда до половины заработка, т.е. рабочий из заработанного рубля отдавал хозяину 50 коп. Бывали случаи, когда сверх штрафов назначалась еще неустойка, например, 10 рублей за уход с фабрики. Общая сумма штрафов достигала на некоторых фабриках нескольких тысяч рублей в год и являлась немаловажным источником дохода.
Фабриканты считали себя вправе, вопреки закону, запрещавшему им самовольно понижать заработную плату, до истечения срока договора, уменьшать ее в любое время по своему усмотрению.
Рабочие должны были выпрашивать у фабриканта заработанные ими деньги как особую милость. На некоторых фабриках практиковался и такой порядок: они совсем не выдавались рабочему на руки в течение года (до окончания срока по найму). Конец 1860 — начало 1870-х годов ознаменовались нарастанием недовольства рабочих и усилением рабочего движения. Особенно обостряются отношения между рабочими и предпринимателями в текстильной, прежде всего хлопчатобумажной, промышленности — ведущей отрасли в стране.
В ходе стачечного движения 1870-х годов правительство и его местные органы, полиция и жандармерия принимали все меры для подавления рабочих выступлений, преследуя активных их участников, преимущественно в административном порядке на основе циркуляров МВД 1870, 1878-1879 гг., а затем и Положений об усиленной и чрезвычайной охране 1881 г., разрешавших высылку стачечников в места их приписки.
Уже в 1870-е годы становилось все более очевидным, что рабочий класс и рабочий вопрос именно в западноевропейском смысле существовали в России.
Заключение
Жизни рабочего на рубеже веков позавидовать было сложно даже малоземельному крестьянину. Понятие «экономическое положение» рабочих включает такие факторы, как занятость на производстве, санитарные и другие условия труда, профессиональную заболеваемость, травматизм. В свою очередь, понятие «уровень жизни» складывается из оценок обеспеченности пролетариев работой, продолжительности их жизни, заработной платы, качества питания, жилищных условий, медицинского обслуживания, соотношения рабочего и свободного времени.
По данным статистики, на рубеже веков рабочие занимали последнее место по размеру сбережений на одного вкладчика. Заработка отца семейства в большинстве случаев не хватало, поэтому более половины жен рабочих тоже трудилось. А это — почти в 3 раза больше, чем число работавших замужних женщин в более развитых в промышленном отношении Германии и Англии. Большие испытания в период становления отечественного промышленного капитализма судьба уготовила женщинам-работницам и подросткам, составлявшим к началу XX века немногим менее половины рабочего люда. Недовольство среди простого народа постепенно приобретало массовый характер.
В среде фабричных и заводских рабочих, искусственно обезземеленных дворян и обезземеливаемых крестьян, пополнявших собой ряды «всемирного бесприютного пролетариата» развивались как вызов Богу злоба и социальная ненависть.
Список использованной литературы
- Копяткевич. Олонецкая художественная старина // Известие общества изучения Олонецкой губернии. – Петрозаводск, 1914. – №5.
- Мюллер Г.П. Очерки по истории ХVI–ХVIII вв. – Петрозаводск, 1947.
- Рабочее движение в России в XIX веке. Т. II. Ч. 1. 1861-1874. – М., 1950.
- Русские: семейный и общественный быт / Отв. ред. М.М. Громыко,
Т.А. Листова. – М., 1989. - Тихомиров Л.А. Христианство и политика. Рабочий вопрос и русские идеалы. http://apocalypse.orthodoxy.ru/
Примечания
Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. – М. 1998. – 367 с.
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»
тагистик Губстатбюро, г. Чернигов; 1920— 1922— редактор газеты, г. Ейск; 1922-1924— литсотрудник, журналы «Работница», «Крокодил», г. Москва; с 1925 -заведующий редакцией журнала «Лапоть» Творческая биография Архангельского начинается с переезда в 1910 году в Петербург. Это было время, когда литературная жизнь столицы переживала повальное увлечение модернизмом всех оттенков: от агонизирующего символизма до акмеизма и футуризма, дебютировавших на литературной арене. Символизм, закат которого переживали его вожди и метры, одновременно бурно развивался вширь, полностью покорив окололитературную среду. Особенно сильное влияние оказал символизм на литературный быт эпохи. О том, что модный стереотип жизни «задел» молодого Архангельского, свидетельствуют многие его письма петербургских лет, в которых мы находим и рассказ о вечере, где в лотерею разыгрывался билет с надписью «Убей себя», о посещении литературного маскарада и знакомстве с поэтами. Все это он описывал с чисто провинциальным энтузиазмом и без тени иронии. Да и стремительность, с которой Архангельский вживается в стиль петербургского модерна, поразительна, особенно если учитывать жизненный опыт, уже стоявший за его плечами.
Навигация с клавиатуры: следующая страница — или пробел,
предыдущая —
Тёмный фон
Светлый фон
Новый тренировочный вариант №25367015 ЕГЭ 2022 по русскому языку 11 класс для подготовки, данный вариант составлен по новой демоверсии ФИПИ экзамена ЕГЭ 2022 года, к тренировочным заданиям прилагаются решения и правильные ответы.
Тренировочный вариант по русскому (КИМ): задания | ответы
Решу ЕГЭ 2022 по русскому языку тренировочный вариант №25367015
Ответы для варианта:
Начало XX века обозначило собой наступление эры телевидения. […] поэтому нужна была телебашня. Первая башня была построена в 1922 году. В 50-е годы, когда в стране началось бурное развитие телевидения, эта башня уже не справлялась с передачей телесигнала. И в 1967 году была возведена новая телебашня в Останкино.
Сегодня с Останкинской телебашни осуществляют вещание 20 радио и 20 телевизионных передатчиков. С башни сигнал принимают 8 спутников «Орбита», которые помогают донести новости для всех зрителей в стране. Телебашня является одним из самых интересных туристических объектов Москвы.
На Останкинской телебашне семь уровней. На разных уровнях высоты (147, 269, 350 м) находятся смотровые площадки. С площадок можно увидеть всю Москву и даже ближайшее Подмосковье. Часть пола изготовлена из особо прочного стекла— во время экскурсии возникает ощущение свободного «парения» в воздухе. Под смотровой площадкой на седьмом уровне расположен ресторанный комплекс «Седьмое небо». Столики в залах стоят на круговой платформе со стеклянными ограждениями. Платформа медленно вращается, и посетители получают дополнительную возможность любоваться прекрасным видом столицы. Высота телебашни— 540 метров. В Европе и Азии Останкинская башня остается самой высокой. Она входит в Международную Федерацию высотных башен.
Задание 1 № 38777 Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.
- 1) Использование числительных придает тексту достоверность, написание числительных цифрами характерно для публицистического стиля.
- 2) Основной функцией приведенного текста является информирование.
- 3) Наряду с общеупотребительной лексикой используется тематическая группа слов, отражающая проблематику текста (вещание, телесигнал), что проявляет такие особенности текста публицистического стиля, как субъективность и непринужденность.
- 4) Цель текста— представить в образной форме проблему с целью эстетического воздействия.
- 5) Текст событийный, его речевая особенность— большое количество глаголов и кратких причастий (построена, началось, возведена) и цепочечное развитие действия.
Ответ: 1235
Задание 2 № 38778 Самостоятельно подберите уточняющую частицу, которая должна стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите эту частицу.
Ответ: именно
Задание 3 № 38779 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. НАЧАЛО
- 1) Первый момент или первые моменты какого-н. действия, явления. Начало работы. Начало учебного года. Положить начало.
- 2) Исходный пункт, исходная точка. Начало главы. Начало улицы. Вести своё начало от чегонибудь (происходить от чего-нибудь).
- 3) Первоисточник, основа, основная причина (книжн.). Организующее начало. Сдерживающее начало.
- 4) мн. Основные положения, принципы (какой-нибудь науки, учения). Начала химии.
- 5) мн. Способы, методы осуществления чего-нибудь. Организовывать дело на новых началах. На общественных началах (о чьей-нибудь работе, деятельности: безвозмездно).
Ответ: 1
Задание 4 № 3208 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. крАны, красИвейший, дозвонЯтся, осведомИшься, принятА.
Ответ: осведомишься
Задание 5 № 6680 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер. Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не хватает для КОМФОРТНОГО состояния пилота. Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине. Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников. Пахло дымом АРОМАТИЧЕСКИХ свечей.
Ответ: конский
Задание 6 № 12654 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. Новенький, вероятно, плохо сходился с людьми: в общих чаепитиях не участвовал, работал всегда молча, без слов.
Ответ: молча
Задание 7 № 4354 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. ДОСТИГНУЛИ менее ВОСЬМИСОТ страниц ОБЕИХ учениц КРАСИВЫЙ тюль по ДЛИННОЙ авеню
Ответ: достигли
Задание 8 № 12529 Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Ответ: 26579
Задание 9 № 37056 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
- 1) распознавать, поклонился, наваждение
- 2) утопический, княгиня, поглощать
- 3) разграничить, бетонный, ворсистый
- 4) осложнять, покаяние, хлопотливый
- 5) скрепление, бахрома, умолять (о пощаде)
Ответ: 245
Задание 10 № 14579 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
- 1) пр..большой, пр..бор, пр..имущество;
- 2) п..верженный, с..зреть, об..шлось;
- 3) с..узить, ин..екция, пред..юбилейный;
- 4) и..бежавший, во..звать, ра..гуляться;
- 5) по..чинительный, по..тверждение, пре..шествовать.
Ответ: 245
Задание 11 № 14525 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
- 1) передёрг..вая, холодн..нький
- 2) забол..вающий, нищ..нка
- 3) доходч..вость, стрем..ни
- 4) вздраг..вающий, потч..вать
- 5) сбивч..вый, имень..це
Ответ: 25
Задание 12 № 14485 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
- 1) плач..щий, скач..щий
- 2) (он) выдерж..т, (он)подытож..т
- 3) тревож..щийся, получ..нный
- 4) ропщ..т, (фермер) корм..т
- 5) люб..щая, пиш..щий
Ответ: 12
Задание 13 № 9251 Укажите все цифры, на месте которых пишется Е. Откуда н(1) возьмись, выскочил щенок, который н(2)чуть н(3) испугался лошади, наоборот, принялся отчаянно нападать на неё, чем н(4)мало развеселил прохожих.
Ответ: 34
Задание 14 № 474 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ) несколько наставлений (НА)СЧЁТ условий поединка. (В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе. (В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но (В)СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. (ПО)ОСЕННЕМУ лесу (НА)ВСТРЕЧУ мне шла девушка.
Ответ: также насчёт
Задание 15 № 126 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочила в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы.
Ответ: 23
Задание 16 № 2455 Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 1) Огонек в башне светился ровным красноватым светом. 2) Жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною но даже и приятною. 3) Море вечно и неумолчно шумит и плещется. 4) Буран крутит швыряет снегом и высвистывает и заливается жутким воем. 5) Слуги в прежние времена носили блюда на званых обедах по чинам и поэтому сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки.
Ответ: 25
Задание 17 № 1009 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). В Крыму Васильев подолгу любовался горами (1) устремлёнными к солнцу (2) и (3) окутанными розовой дымкой (4) деревьями.
Ответ: 12
Задание 18 № 7084 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Мальчик был непоколебим и (1) по-видимому (2) с исключительным упорством добивался своего. Вот и в этот раз родители (3) наконец (4) уступили и сделали так, как хотел их сын.
Ответ: 12
Задание 19 № 4883 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Вчера вечером (1) простился я со своим спутником (2) добросердечия (3) которого (4) не забуду никогда.
Ответ: 2
Задание 20 № 6967 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Если Ирина освоилась в Ферапонтове и успела его полюбить (1) то Виктор попал сюда впервые (2) и (3) хотя по рассказам знал многое (4) поражался всему (5) что видел.
Ответ: 1345
Задание 21 № 18220 Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1)Кроноцкий заповедник, расположенный на территории Камчатского края, для туристов является почти синонимом Долины гейзеров. (2)При этом, отметим, открытие самой Долины произошло много позже основания заповедника. (3)Честь открытия выпала геологу Т.И. Устиновой: в 1941 году она и Анисифор Крупенин, камчатский абориген, во время исследования территории заповедника наткнулись на один из гейзеров. (4)Сейчас Долина гейзеров на Камчатке, являясь самой концентрированной территорией термальных источников, известна по всему миру. (5)Здесь сосредоточено больше сорока гейзеров, здесь же сформирована одна из самых изучаемых экологических систем полуострова. (6)Долина не раз меняла свой первоначальный облик в связи с природными катастрофами, одна из них произошла в июне 2007 года. (7)В результате этой катастрофы основная часть гейзеров была затоплена, однако спустя несколько лет гейзерные источники ожили.
Ответ: 56
Задание 22 № 5545 Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в возрастающем порядке. 1) Рассказчик, будучи на каторге, поначалу ненавидел и боялся других каторжников. 2) Мальчика в лесу напугал внезапно появившийся из-за кустов волк, а крепостной мужик спас героя. 3) В момент встречи с Мареем герою, от лица которого идёт повествование, было девять лет. 4) Рассказчик через двадцать лет вспоминал о том происшествии. 5) Рассказчик в детстве не боялся крепостных и с ними легко общался.
Ответ: 134
Задание 26 № 5555 Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. При создании образа Марея Ф. М. Достоевский, чтобы передать простоту своего персонажа, его необразованность, использует в диалогах такое средство, как (А) (например, «вишь» в предложении 10, «испужался» в предложении 14, «те» в предложении 24). Участливость, искренность эмоций этого крепостного крестьянина передают многочисленные (Б) («айай» в предложении 14, «ну» в предложении 18). В то же время такой троп, как (В) (например, «материнскою и длинною улыбкой», «глубоким и просвещённым чувством»), создаёт глубину, масштабность создаваемого образа. Такое синтаксическое средство выразительности, как (Г) (предложения 6, 20, 30), делает повествование динамичным, ярким и живым.
Ответ: 2654
Другие тренировочные варианты ЕГЭ по русскому языку 11 класс:
Тренировочные варианты ЕГЭ по русскому языку задания с ответами
ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
| А) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Б) неправильное построение предложения с причастным оборотом В) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Г) нарушение управления Д) ошибка в построении сложноподчинённого предложения |
1) В начале XX века в России существовало немало поэтических школ и течений. 2) Растущие лилии в саду прекращали своё цветение в дождливые периоды. 3) Гуляя по осеннему парку, шорох осенних листьев и радует, и наводит тоску. 4) Довольно долго мечтая о полёте, люди пытались конструировать крылья на манер птичьих. 5) Мать говорила, что все, кто найдут этот цветок, обязательно будут счастливы. 6) В начале XX столетия цена на кофе так сильно возросла, что поэтому позволить себе такую роскошь могли лишь очень состоятельные люди. 7) Знакомство России с чаем началось прежде всего благодаря дипломатическим связям и этикету.  Сегодня мало тех, кто по-настоящему гордится за свою страну и готов сражаться за неё. Сегодня мало тех, кто по-настоящему гордится за свою страну и готов сражаться за неё.9) Сюжет, связанный с образом Кащея Бессмертного, впервые появляется в египетской сказке, записанной ещё в XVI веке до нашей эры. |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
- А — 3. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, должны относиться к одному лицу (верно: «Когда гуляешь по осеннему парку, шорох осенних листьев и радует, и наводит тоску».).
- Б — 2. Определяемое слово не должно входить в причастный оборот (верно: «Лилии, растущие в саду, прекращали своё цветение в дождливые периоды».).
- В — 5. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. (кто найдЕТ).
- Г — 8. Верно: гордится (чем?) своей страной (Т.п).
- Д — 6. Наложение союзов, «поэтому» лишнее (так…, что).
Ответ: 32586